Фотография и перформанс
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Тема документации перформанса до сих пор неоднозначна, поскольку перформанс с одной стороны – это живой процесс, событие, а с другой стороны возникает необходимость архивировать и сохранить его. Поэтому перформанс часто включает в себя фотографию. В данном контексте дистанция между фотографией и перформансом разная, но она всегда возникает. Художники либо включают документацию в перформанс, и тогда фотография становится частью работы, либо запрещают документировать, и отсутсвие фотографии тоже становится частью работы.
Пегги Фелан в 1993 году написала, что перформанс существует только в настоящем, c её точки зрения зафиксировать перформанс невозможно, она сравнивает перформанс с камнем упавшим в воду, а документацию с рябью на воде. В самом перформативном высказывании заложена определенная тенденция к саморазрушению. Но есть и другая точка зрения.
Амелия Джонс в своем исследовании "Присутствие" в отсутствии" пишет: "Мне не было 3 лет, я жила в Северной Каролине, когда Кароли Шнееманн сделала перформанс "Meat Joy" на Фестивале Свободного Выражения в Париже в 1964;
Тема документации перформанса до сих пор неоднозначна, поскольку перформанс с одной стороны – это живой процесс, событие, а с другой стороны возникает необходимость архивировать и сохранить его. Поэтому перформанс часто включает в себя фотографию. В данном контексте дистанция между фотографией и перформансом разная, но она всегда возникает. Художники либо включают документацию в перформанс, и тогда фотография становится частью работы, либо запрещают документировать, и отсутсвие фотографии тоже становится частью работы.
Пегги Фелан в 1993 году написала, что перформанс существует только в настоящем, c её точки зрения зафиксировать перформанс невозможно, она сравнивает перформанс с камнем упавшим в воду, а документацию с рябью на воде. В самом перформативном высказывании заложена определенная тенденция к саморазрушению. Но есть и другая точка зрения.
Амелия Джонс в своем исследовании "Присутствие" в отсутствии" пишет: "Мне не было 3 лет, я жила в Северной Каролине, когда Кароли Шнееманн сделала перформанс "Meat Joy" на Фестивале Свободного Выражения в Париже в 1964;
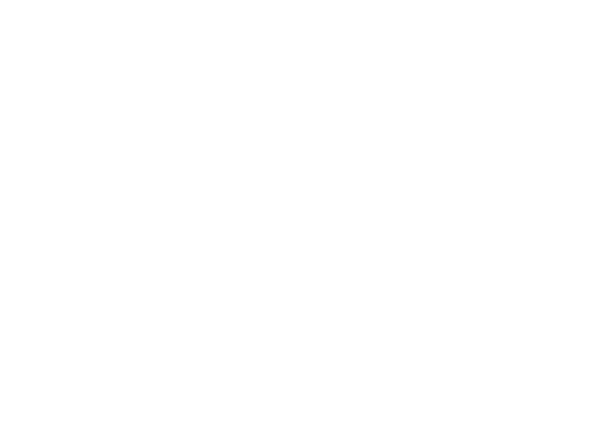
3 года, когда Йоко Оно сделала перформанс "Cut Piece" в Киото;
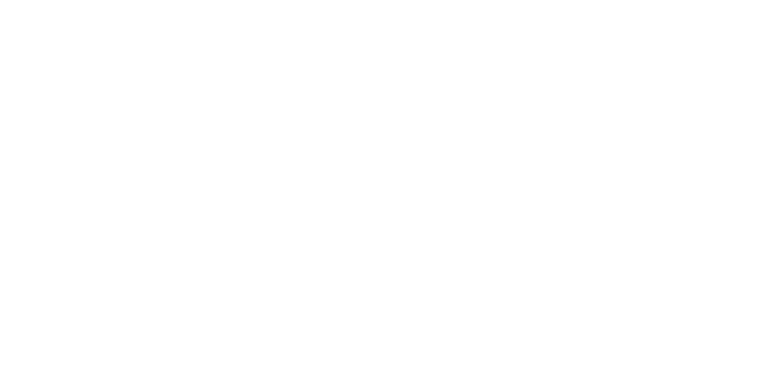
8 лет, когда Вито Аккончи сделал его работу "Push Ups" на песке пляжа Джонс;
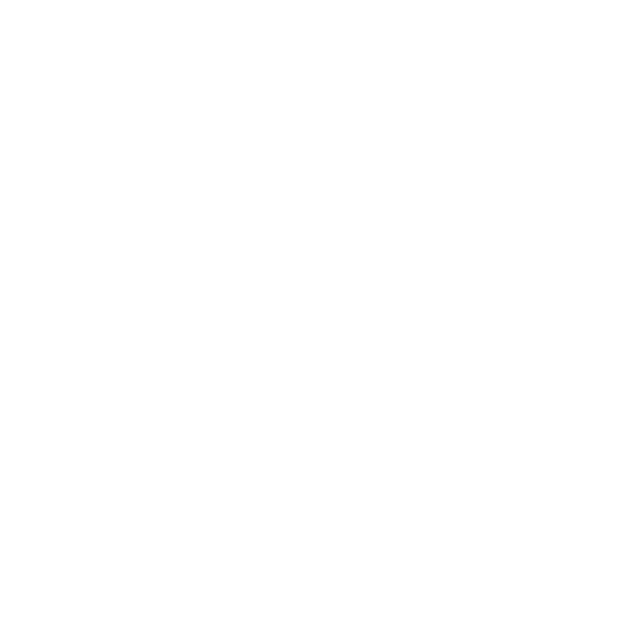
Барбара Т. Смит начала исследование телесного опыта в её перформансе "Ritual Meal" в Лос Анжелесе; 9 лет, когда Адриан Пайпер сделала серию перформансов "Catal- ysis" на улицах Нью-Йорка;
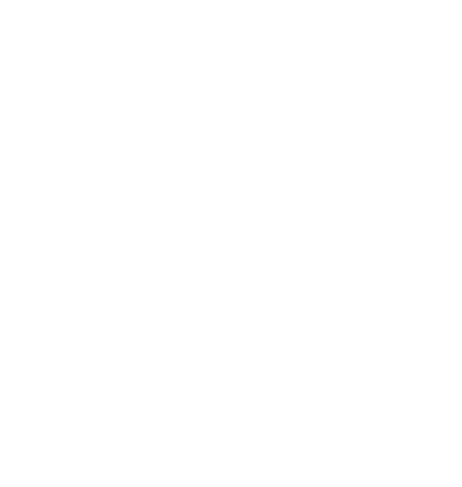
10 лет, когда Вали Экпорт переворачивалась на стекле в работе "Eros/Ion" во Франкфурте;
12 лет в 1973, когда в Милане Джина Пане порезала свою ладонь и вставила шипы роз в руку (Sentimental Action);
15 лет (я все еще в Северной Каролине не подозреваю, что происходит в арт мире), когда Марина Абрамович и Улай сталкивались друг с другом в пефрормансе "Relation in Space" на Венецианской Биеннале в 1976.
12 лет в 1973, когда в Милане Джина Пане порезала свою ладонь и вставила шипы роз в руку (Sentimental Action);
15 лет (я все еще в Северной Каролине не подозреваю, что происходит в арт мире), когда Марина Абрамович и Улай сталкивались друг с другом в пефрормансе "Relation in Space" на Венецианской Биеннале в 1976.
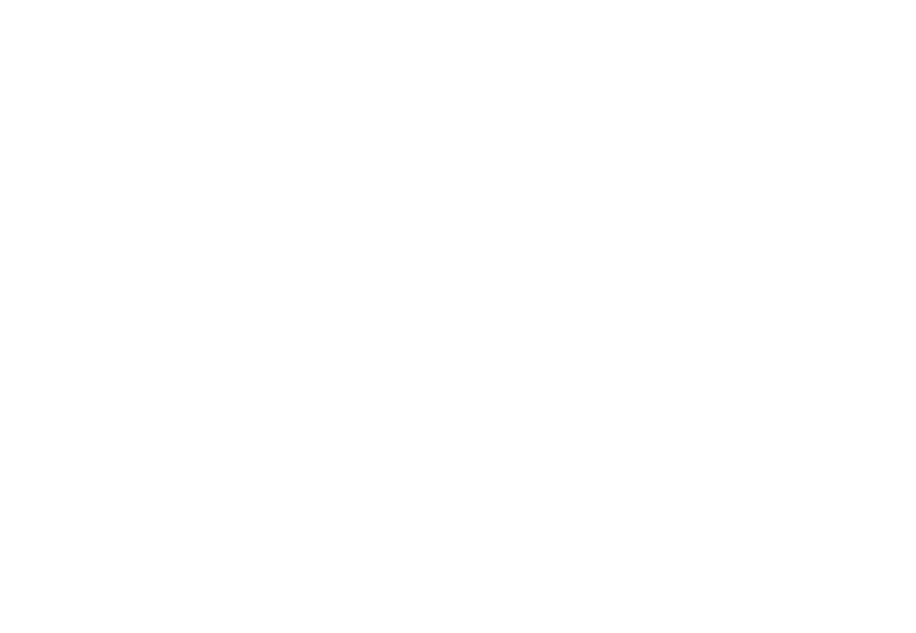
Мне было 31 в 1991, когда я начала изучать перформанс и боди-арт (телесные практики) в этот плодотворный и важный период полностью через документацию.
Хотя я очень уважительно отношусь к опыту участия "вживую" в перформансе в качестве зрителя, я тем не менее буду утверждать, что эта специфика не должна быть в более привилигированном положении по сравнению со спецификой знания, которое зависит от наличия документации этого события.
Насколько я знаю по моему опыту "реальность" участия в перформансе можно оценить только спустя время, многозначность образуется только спустя несколько лет. Довольно сложно осознать важность исторического контекста пока ты находишься внутри. Мы открываем для себя этот исторический срез с помощью изображения, через взгляд назад."
Хотя я очень уважительно отношусь к опыту участия "вживую" в перформансе в качестве зрителя, я тем не менее буду утверждать, что эта специфика не должна быть в более привилигированном положении по сравнению со спецификой знания, которое зависит от наличия документации этого события.
Насколько я знаю по моему опыту "реальность" участия в перформансе можно оценить только спустя время, многозначность образуется только спустя несколько лет. Довольно сложно осознать важность исторического контекста пока ты находишься внутри. Мы открываем для себя этот исторический срез с помощью изображения, через взгляд назад."
Представление о многих культовых перформансах 60-70гг. включая работы Ива Кляйна, Вито Аккончи, Дэна Грэма, Марты Минуджин, Мерса Каннингема, Яёи Кусамы,мы формулируем на основе на фотографий Гарри Шанка и Яноса Кендера.
И начнем с нескольких акций и перформансов, которые документировали Шанк и Кендер.
19 октября 1960 г Ив Кляйн совершает LE SAUT DANS LE VIDE (ПРЫЖОК В ПУСТОТУ), сфотографированный Гарри Шанком и Яносом Кендером. В большинстве фундаментальных трудов по истории современного искусства рассматривается как поворотный пункт в области высказываний по поводу "истины, заключающейся в нас самих, и скрывающейся за масками, которые мы должны сбросить". («Между субъектом и телом. Перформанс. Попытка определения жанра. Кто? Как? Для чего?») Абалакова Наталья Борисовна раскрывает феномен телесных художественных практик.
И начнем с нескольких акций и перформансов, которые документировали Шанк и Кендер.
19 октября 1960 г Ив Кляйн совершает LE SAUT DANS LE VIDE (ПРЫЖОК В ПУСТОТУ), сфотографированный Гарри Шанком и Яносом Кендером. В большинстве фундаментальных трудов по истории современного искусства рассматривается как поворотный пункт в области высказываний по поводу "истины, заключающейся в нас самих, и скрывающейся за масками, которые мы должны сбросить". («Между субъектом и телом. Перформанс. Попытка определения жанра. Кто? Как? Для чего?») Абалакова Наталья Борисовна раскрывает феномен телесных художественных практик.
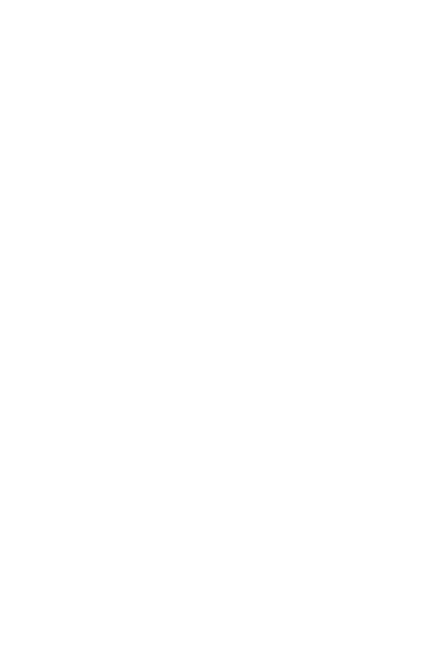
Снимок, на котором Ив изображен летящим с распростертыми руками с верхнего этажа здания - фотомонтаж. Для его создания художник действительно прыгал со второго этажа, но не на мостовую, а на мат, который держали друзья-дзюдоисты.
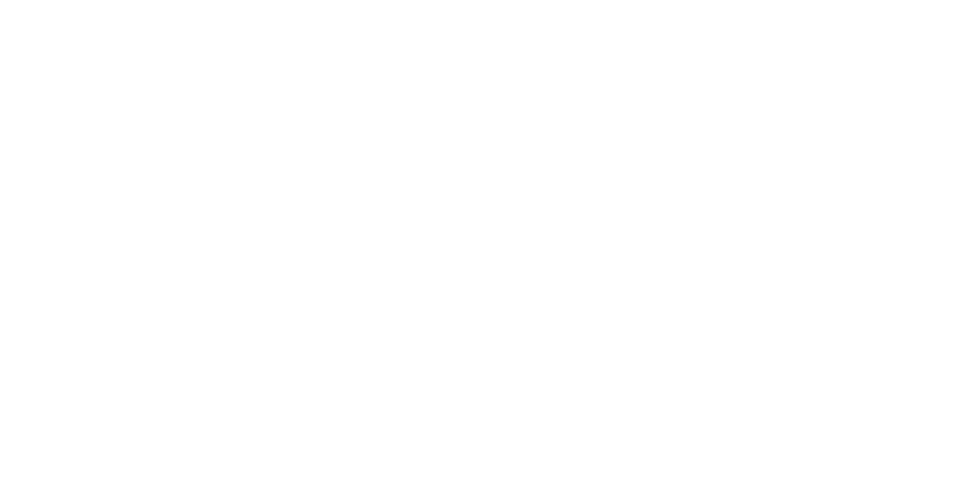
Снимок был опубликован на первой странице ежедневной парижской газеты France sior под заголовком «Человек в космосе. Художник космоса бросает себя в пустоту» в качестве несимметричного ответа на полет Гагарина.
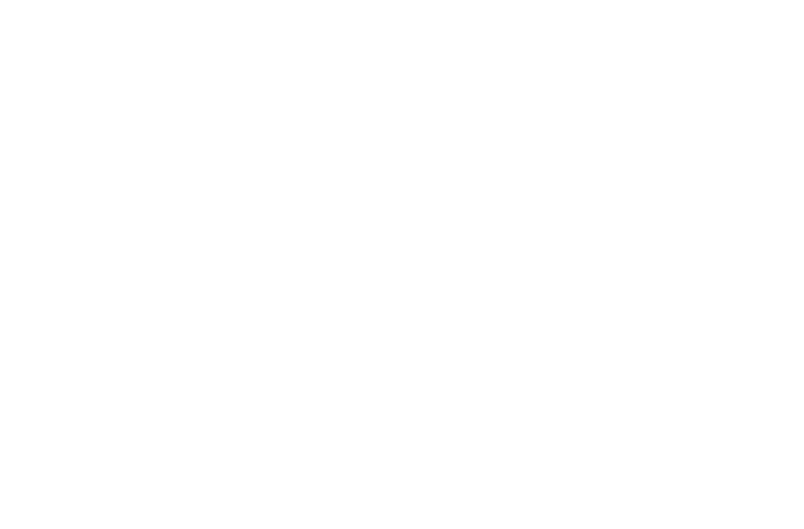
Гарри Шанк и Янос Кендер документируют акцию Ива Кляйна с разных перспектив, создавая тем самым эффект параллакса. То есть возникает феноменологический аспект фотографии: взаимоотношение между телом художника (перформера), камерой и зрителем, и в данном случае расположение зрителя зависит от фотографов, документирующих событие.
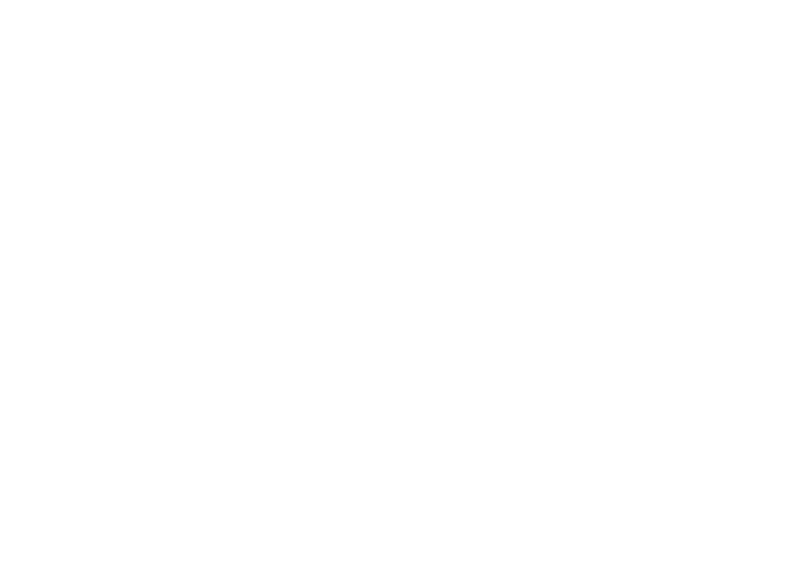
В данном примере перформанс зависает между реальным событием и документом.То есть возникает мерцающая граница авторства, фотографическое изображение в данном случае становится частью работы. И дальнейщее размещение фотографии в газете тоже важная часть репрезентации перформанса.
Также раскрывается важный вопрос индексальной природы фотографического изображения, художники с помощью фотомонтажа создают иллюзию прыжка на асфальт, в то же время, как правило, рассматривая фотографии перформанса мы верим в реальность происходящего. Фотография дает возможность перформансу случиться и делает это каждый раз, когда мы смотрим на изображение.
В документации перформанса Дэна Грема, который проходил в рамках выставки Pier 18 (1971), сопоставляются 2 серии фотографий. Перформер использует камеру как продолжение тела и делает снимки разных уровней пространства. Кадр выстроен вслепую, горизонт завален, что передает хаотичное ощущение. Шанк-Кендер документируют действие перформера, двигаясь вокруг него, но контролируют кадр и линия горизонта не меняется. Документация становится частью художественного жеста и в данном случае фотографы являются со-авторами. Художники предъявляют нам разницу "горизонтов" между опытом наблюдения перформанса вживую и через документацию.
(https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3524?)
Также раскрывается важный вопрос индексальной природы фотографического изображения, художники с помощью фотомонтажа создают иллюзию прыжка на асфальт, в то же время, как правило, рассматривая фотографии перформанса мы верим в реальность происходящего. Фотография дает возможность перформансу случиться и делает это каждый раз, когда мы смотрим на изображение.
В документации перформанса Дэна Грема, который проходил в рамках выставки Pier 18 (1971), сопоставляются 2 серии фотографий. Перформер использует камеру как продолжение тела и делает снимки разных уровней пространства. Кадр выстроен вслепую, горизонт завален, что передает хаотичное ощущение. Шанк-Кендер документируют действие перформера, двигаясь вокруг него, но контролируют кадр и линия горизонта не меняется. Документация становится частью художественного жеста и в данном случае фотографы являются со-авторами. Художники предъявляют нам разницу "горизонтов" между опытом наблюдения перформанса вживую и через документацию.
(https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3524?)
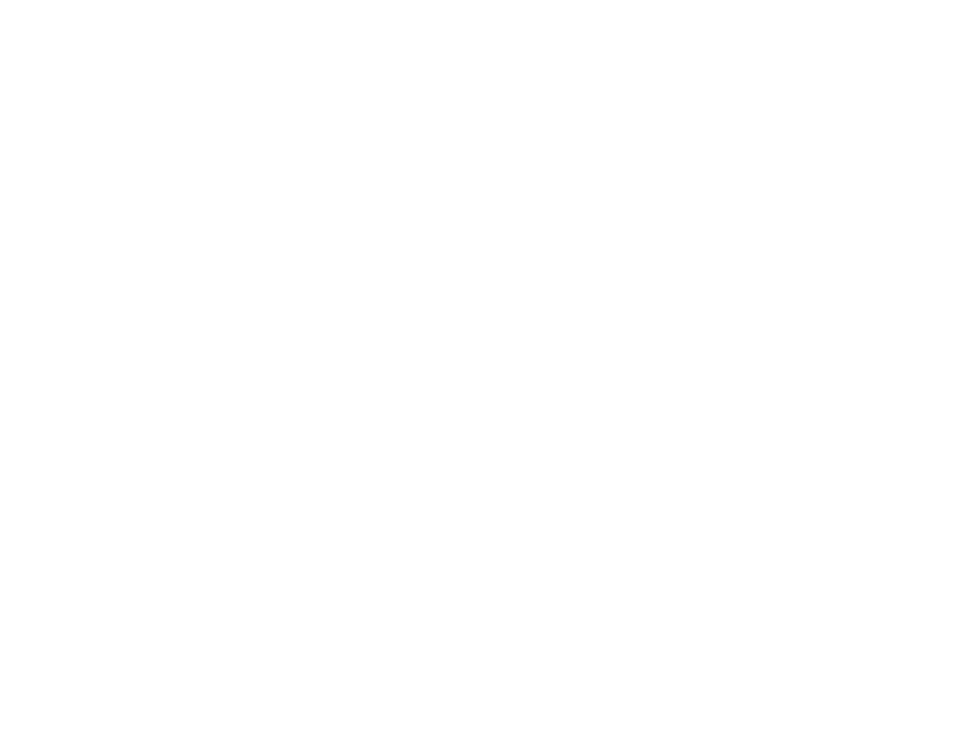
Ева Партум принадлежит к первому поколению художников концептуального искусства в Польше и является одним из первых авторов Восточной Европы, обратившихся в своих работах к теме феминизма. Ее произведения включают в себя акции, объекты, фотографии, фильмы, перформансы, визуальную поэзию и мейл-арт. Перформанс "Selfidentification" проходил в Варшаве 1980 г., художница была обнажена и могла находиться только внутри галереи, но выйти обнаженной за её пределы она не могла из-за политического режима того времени. С помощью фотомонтажа художница создает потенциальный перформанс в альтернативной реальности, как выглядел бы её перформанс если бы художница могла делать его в общественном пространстве. И художница рассматривает эти фотографии как документацию, а не как серию художественных фотографий. То есть на фотографиях она заостряет вопрос взаимоотношения личного и коллективного.
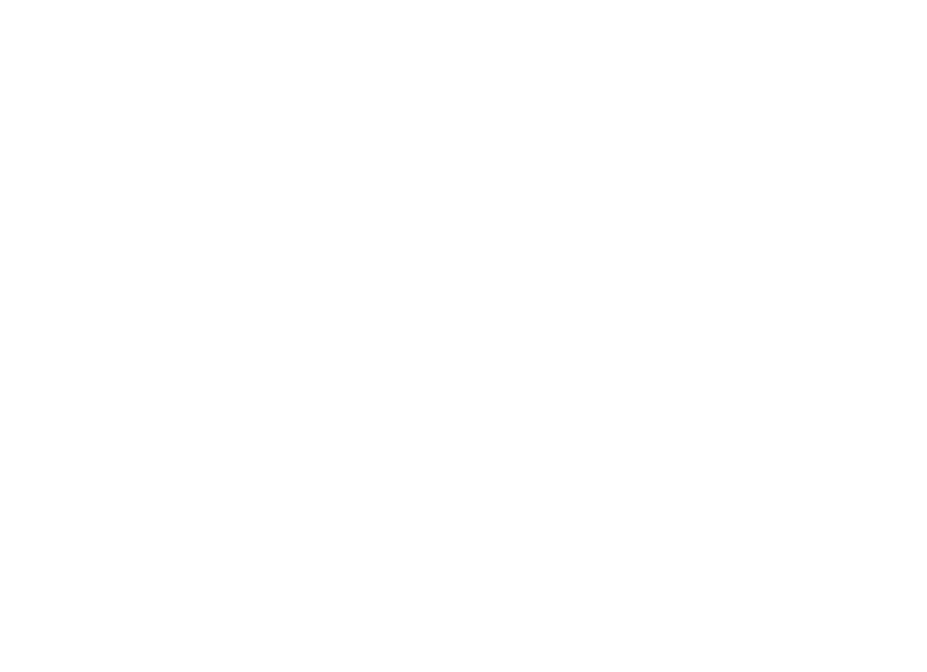

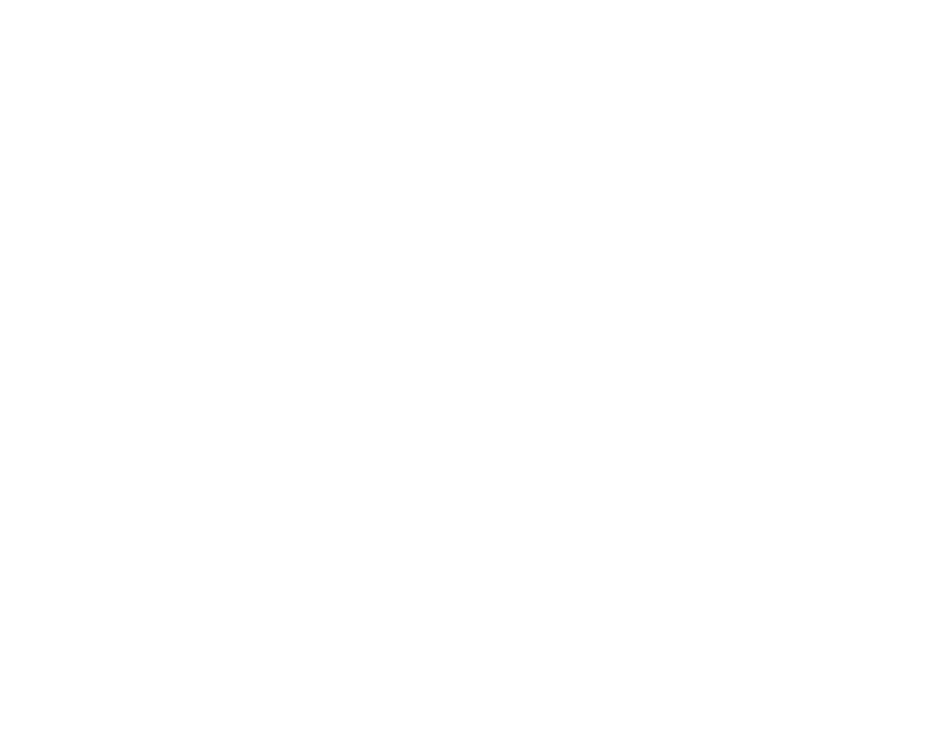
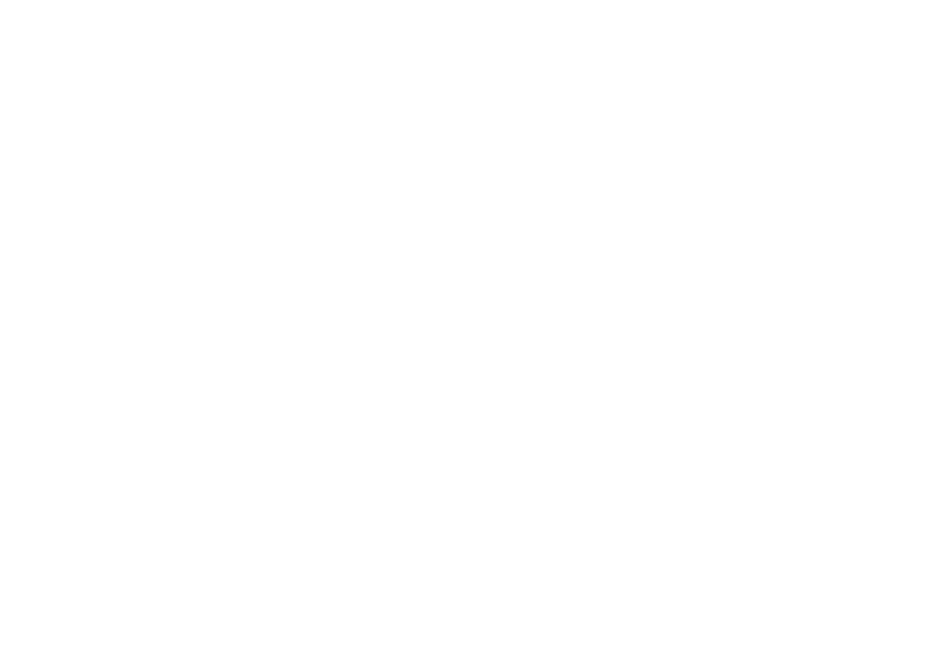
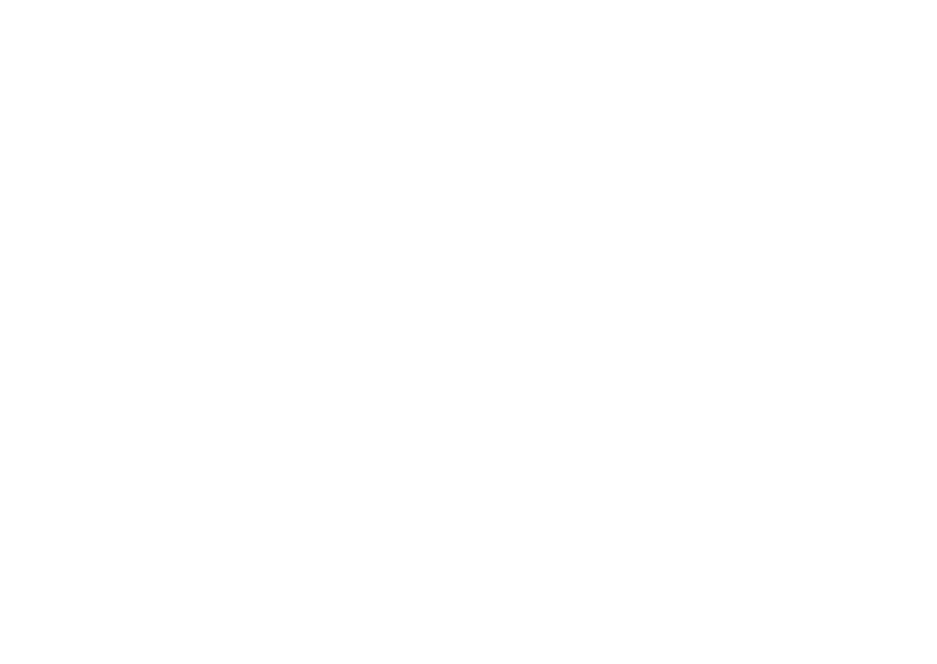
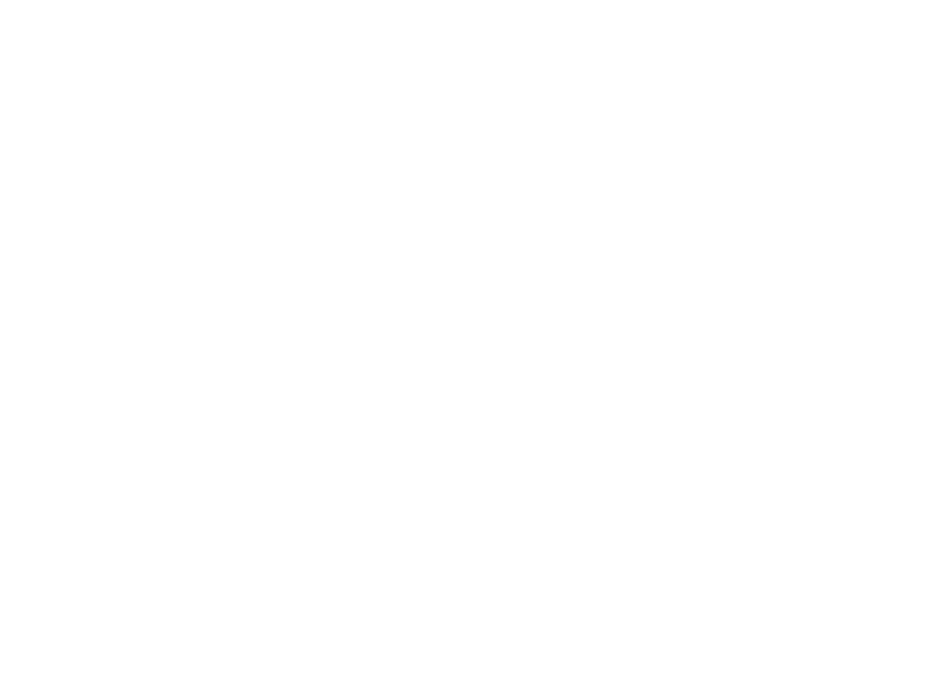
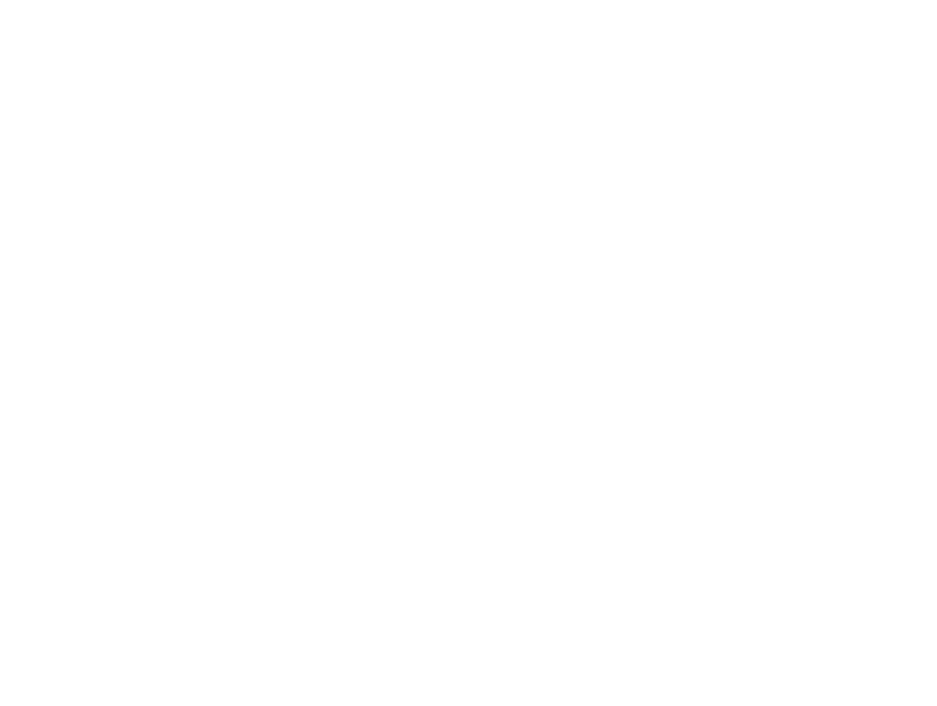
НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ В ФОТОГРАФИИ
Мел Бохнер стал работать с фотографией, когда она занимала маргинальную позицию в искусстве. И он взял фразу из энциклопедии о том, что фотография не может передать абстрактную идею и нашел лаконичную форму, которая опровергает эту фразу, поскольку то, что мы видим перед собой является фотографией с абстрактной идеей.
Мел Бохнер стал работать с фотографией, когда она занимала маргинальную позицию в искусстве. И он взял фразу из энциклопедии о том, что фотография не может передать абстрактную идею и нашел лаконичную форму, которая опровергает эту фразу, поскольку то, что мы видим перед собой является фотографией с абстрактной идеей.

(Монастырский)
Совершенно ясно, что в этот момент главной его особенностью для человека, пережившего пред-ожидание и теперь переживающего ожидание, является его «пустота».
Здесь возникает проблема не нарушить это состояние грубым вторжением какого-нибудь объекта или события в зрительное поле. Как мы уже говорили выше, у нас нет задачи что-либо «показать» участникам-зрителям. Задача состоит в том, чтобы сохранить впечатление от ожидания как от важного, значимого события. Однако, если пред-ожидание требует своего разрешения в ожидании, что и осуществляется, то и ожидание в свою очередь требует своего разрешения в каком-то новом переживании, то есть оно необходимо требует начала действия - иначе не может осуществиться как свой предмет. Здесь важно, сохранив освобожденность сознания от непосредственной сферы обыденного восприятия, достигнутую в результате «проведения» его как бы по периферии демонстрационного поля, воздействовать на него через запрограммированное событие самой акции таким образом, чтобы оно не вернулось в исходное состояние, предшествующее пред-ожиданию, а сохранилось внутри самого себя в этой своей освобожденности при восприятии вполне реальных событий.
Для решения этой задачи (здесь мы будем иметь в виду определенную группу акций: Появление, Комедия, Третий вариант, Картины, Место действия) мы используем прием постепенного выведения объекта восприятия (фигуры участника-устроителя) из невидимости - через зону неразличения - в зону различимости на эмпирическом плане демонстрационного поля.
И все же, если до сих пор мы имели переживание чистого ожидания, то теперь, при появлении на реальном поле объекта восприятия, это переживание прекращается, прерывается и начинается процесс УСИЛЕННОГО СМОТРЕНИЯ, причем возникает желание понять, что значит этот объект. С нашей точки зрения этот новый этап восприятия является паузой, необходимым этапом процесса восприятия, но ни в коем случае не тем событием, ради которого все и затевалось. Сразу скажем, что само действие акции совершается «для отвода глаз». Природа ожидания требует, чтобы мы осуществили этот этап и уклониться от этого в рамках поставленной задачи невозможно, но можно «обмануть» восприятие, то есть осуществить его, но потом дать понять, что «в то время, когда все смотрели в одну сторону, главное событие происходило совсем в другом месте»- в данном случае в сознании самих зрителей.
Совершенно ясно, что в этот момент главной его особенностью для человека, пережившего пред-ожидание и теперь переживающего ожидание, является его «пустота».
Здесь возникает проблема не нарушить это состояние грубым вторжением какого-нибудь объекта или события в зрительное поле. Как мы уже говорили выше, у нас нет задачи что-либо «показать» участникам-зрителям. Задача состоит в том, чтобы сохранить впечатление от ожидания как от важного, значимого события. Однако, если пред-ожидание требует своего разрешения в ожидании, что и осуществляется, то и ожидание в свою очередь требует своего разрешения в каком-то новом переживании, то есть оно необходимо требует начала действия - иначе не может осуществиться как свой предмет. Здесь важно, сохранив освобожденность сознания от непосредственной сферы обыденного восприятия, достигнутую в результате «проведения» его как бы по периферии демонстрационного поля, воздействовать на него через запрограммированное событие самой акции таким образом, чтобы оно не вернулось в исходное состояние, предшествующее пред-ожиданию, а сохранилось внутри самого себя в этой своей освобожденности при восприятии вполне реальных событий.
Для решения этой задачи (здесь мы будем иметь в виду определенную группу акций: Появление, Комедия, Третий вариант, Картины, Место действия) мы используем прием постепенного выведения объекта восприятия (фигуры участника-устроителя) из невидимости - через зону неразличения - в зону различимости на эмпирическом плане демонстрационного поля.
И все же, если до сих пор мы имели переживание чистого ожидания, то теперь, при появлении на реальном поле объекта восприятия, это переживание прекращается, прерывается и начинается процесс УСИЛЕННОГО СМОТРЕНИЯ, причем возникает желание понять, что значит этот объект. С нашей точки зрения этот новый этап восприятия является паузой, необходимым этапом процесса восприятия, но ни в коем случае не тем событием, ради которого все и затевалось. Сразу скажем, что само действие акции совершается «для отвода глаз». Природа ожидания требует, чтобы мы осуществили этот этап и уклониться от этого в рамках поставленной задачи невозможно, но можно «обмануть» восприятие, то есть осуществить его, но потом дать понять, что «в то время, когда все смотрели в одну сторону, главное событие происходило совсем в другом месте»- в данном случае в сознании самих зрителей.
Традиционный эстетический дискурс направлен чаще всего от языка к сущему, то есть критик как бы разглядывает сквозь произведения того или иного автора действительность - природу, социальные отношения, идеалы, не забывая, конечно, описать - с учетом своей "смотровой площадки", на которую он заброшен временем, - и особенности устройства той "линзы" (стиля, направления художника), сквозь которую он судит об эпохе.
____
Фотография пустого поля, изъятая из ряда документальных фотографий, повествующих о том, что происходило на поле 2 октября 1977 года, перестает быть документальной, становится знаком более высокого порядка, знаком "неслучайной пустоты" с таким смыслом: "на ней ничего не изображено не потому, что ничего не происходило в данный момент, а потому, что то, что происходило, принципиально неизображаемо". Демонстрационная сущность события - "пустое действие" - изображается отсутствием изображения. Эта данность "неизображаемости" и работает, на мой взгляд, самостоятельно и положительно (в рамках этого дискурса) в предложенной здесь последовательности семи "пустых" фотографий семи наших акций.
____
Фотография пустого поля, изъятая из ряда документальных фотографий, повествующих о том, что происходило на поле 2 октября 1977 года, перестает быть документальной, становится знаком более высокого порядка, знаком "неслучайной пустоты" с таким смыслом: "на ней ничего не изображено не потому, что ничего не происходило в данный момент, а потому, что то, что происходило, принципиально неизображаемо". Демонстрационная сущность события - "пустое действие" - изображается отсутствием изображения. Эта данность "неизображаемости" и работает, на мой взгляд, самостоятельно и положительно (в рамках этого дискурса) в предложенной здесь последовательности семи "пустых" фотографий семи наших акций.
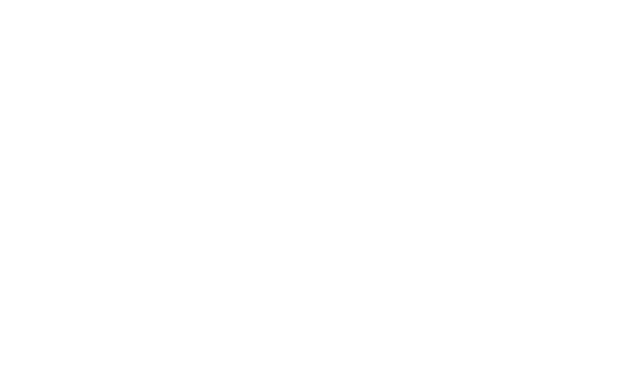
В наши дни перформанс документируют как правило зрители, и к примеру в перформансе Тани Бругера документация концептуально включена в работу. Тут важен политический контекст работы, поскольку в 2009 году Таня Бругера нарушила установленное ранее правило не делать перформансов на Кубе (в связи с тем, что закрывала свою школу Arte de conducta). По приглашению художника Гильермо Гомеса-Пеньи (Guillermo Gomez-Peña) она организовала перформанс "Шепот Татлина №6". В Центре Вифредо Лама художница установила трибуну с подиумом, поставила двух революционных гвардейцев в военной форме и микрофон. Заранее приглашенной аудитории было предложено выступить с трибуны и воспользоваться правом свободы слова. Зрителям раздали дешевые фотоаппараты со вспышками и предложили снимать происходящее. Гвардейцы сажали белого голубя на плечо каждого выступающего, а по истечении ровно одной минуты уверенно забирали микрофон и уводили с трибуны. Декорация воспроизводила сцену знаменитой революционной речи Фиделя Кастро. Выступления почти сорока человек находились в диапазоне от четко спланированной речи в защиту политических реформ до смущенной попытки вообще что-то сказать. Политический эмигрант и критик Лупе Альварес просто расплакалась, а известный в городе блогер Джоанни Санчес потребовала снятия цензуры и доступа к интернету. Как заметила присутствовавшая там критик Клер Бишоп, обстановка была эмоционально взведенная. Ровно через час Бругера поблагодарила кубинский народ и закрыла мероприятие. На следующий день оргкомитет биеннале (но не правительственный орган) выпустил официальное осуждение перформанса: Бругера и ее коллеги, с их точки зрения, дискредитировали идеалы кубинской революции. Сама Таня говорит, что целью мероприятия было следовать всем официальным инструкциям и требованиям вышестоящих инстанций. Она заранее подала заявки и конкретный сценарий, и все было одобрено. Бругера считает, что в данной ситуации она выиграла – кубинскому правительству просто нечего было сказать. Хотя говорит, что этим закрыла себе вход на участие в Гаванской биеннале в будущем. Документация перформанса "Шепот Таталина 6" распространилась среди местных жителей, заостряя тему свободы слова, фотографии создали альтенативную действующей цензуре реальность. Авторские права на документацию принадлежат зрителям (Бругер прописала это в концепции), таким образом зрители становятся со-авторами перформанса.
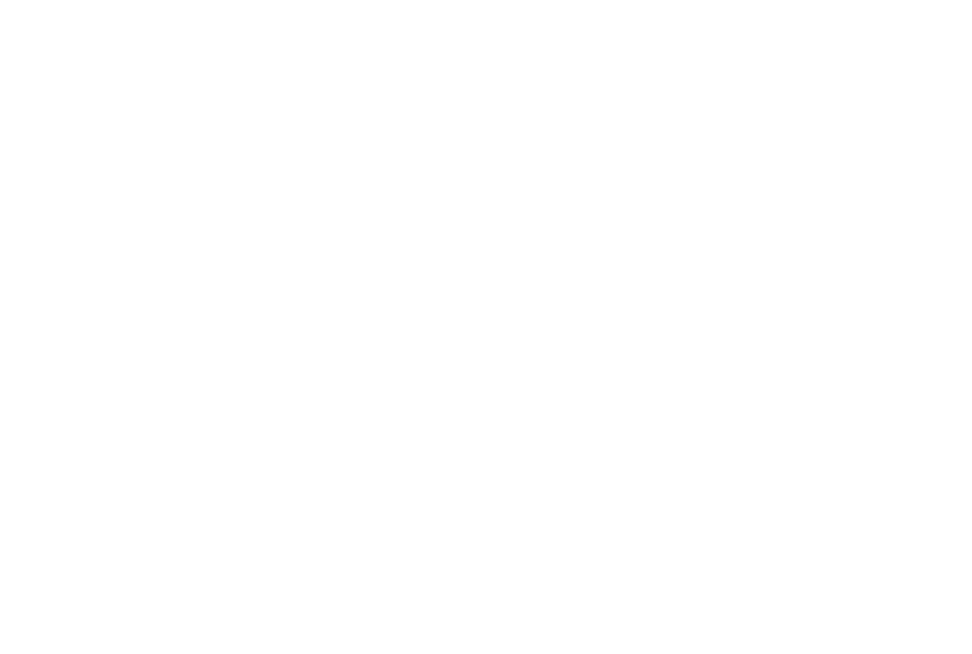
Розалинд Краусс признала философские взаимовлияние фотографии и перформанса, расположенных в различных категориях индексальности. В качестве индексов, работающих в двух направлениях "заменяющих фиксацию чисто физического присутствия для более артикулированного языка эстетических конвенций." И еще, я хотела бы подчеркнуть, в их неспособности "выйти за рамки" случайных эстетических кодов, перформанс и фотография заявляют дополнительный характер самого индекса. Презентация сама по себе-в перформансе, в фотографии, кино или видео-звонках взаимодополняет тело и субъект (тело, как материал "объект" в мире, по-видимому, подтверждает "присутствие" субъекта; субъект наделяет тело значением в категории "человеческого"), а тоже самое происходит с перформансом и фото-документацией. (http://art.usf.edu/file_uploads/presence.pdf ) (Presence in Absentia amelia jones стр 16)
То есть как пишет Кети О'Дейл: "перформанс – это виртуальный эквивалент репрезентации".
(эссе Displacing the Haptic: Performance Art, the Photographic Document, and the 1970s)
Перформанс случается на границе между событием и изображением. Невозможно точно определить, где заканчивается событие и начинается репрезентация, в этом и красота взаимовлияния фотографии и перформанса, эта граница даже в контексте документации до сих пор является дискуссионным полем, открытым к обсуждению и размышлению.
Исследования на тему документации перформанса:
1) Amelia Jones "Presence" in absentia. Experiencing Performance as Documentation"
2) Philip Auslander "Toward a hermeneutics of performance art documentation"
3) Jonah Westerman "Between Action and Image: Performance as 'Inframedium'
Peggy Phelan "Unmarked: The Politics of Performance"
То есть как пишет Кети О'Дейл: "перформанс – это виртуальный эквивалент репрезентации".
(эссе Displacing the Haptic: Performance Art, the Photographic Document, and the 1970s)
Перформанс случается на границе между событием и изображением. Невозможно точно определить, где заканчивается событие и начинается репрезентация, в этом и красота взаимовлияния фотографии и перформанса, эта граница даже в контексте документации до сих пор является дискуссионным полем, открытым к обсуждению и размышлению.
Исследования на тему документации перформанса:
1) Amelia Jones "Presence" in absentia. Experiencing Performance as Documentation"
2) Philip Auslander "Toward a hermeneutics of performance art documentation"
3) Jonah Westerman "Between Action and Image: Performance as 'Inframedium'
Peggy Phelan "Unmarked: The Politics of Performance"
ТЕЛО КАК АРХИВ (Перформативные аспекты фотографии)
По определению Джудит Батлер, телесные действия, называемые "перформативными" не служат выражению некой идентичности, а скорее создают идентичность в качестве своего значения. Отсюда следует, что тело отдельного человека с его особой материальностью тоже является результатом повторного воспроизведения определенных жестов и движений. Именно эти отдельные действия порождают тело с его индивидуальными, половыми , этническими, культурными признаками. Таким образом идентичность - как телесная и социальная реальность - постоянно формируется посредством перформативных актов.
В то же самое время ни индивидуум, ни общество не в состоянии полностью контролировать условия, в которых происходит процесс воплощения. Как индивидуум не обладает полной свободой при выборе возможностей для воплощения, а следовательно, при выборе идентичности, так и общество в свою очередь не в силах осуществить абсолютный контроль. Общество может, тем не менее, пытаясь навязать свои условия при выборе возможностей для воплощения, применяя штрафные санкции в случаях неповиновения, однако в целом оно не в состоянии предотвратить уклонение от насаждаемого порядка как таковое. Это означает, что выявленная Остином способность перформативных феноменов разрушать дихтомические структуры,очевидно, играет важную роль и в концепции Батлер. C одной стороны, посредством перформативных актов, формирующих гендер и идентичность в целом, общество осуществляет насилие над телом индивида. С другой стороны, перформативные акты предоставляют отдельной личности возможность для индивидуального воплощения, а именно – с отклонением от укоренившихся в обществе представлений, даже если это сопряжено с санкциями со стороны общества. (Эрика Фишер)
По определению Джудит Батлер, телесные действия, называемые "перформативными" не служат выражению некой идентичности, а скорее создают идентичность в качестве своего значения. Отсюда следует, что тело отдельного человека с его особой материальностью тоже является результатом повторного воспроизведения определенных жестов и движений. Именно эти отдельные действия порождают тело с его индивидуальными, половыми , этническими, культурными признаками. Таким образом идентичность - как телесная и социальная реальность - постоянно формируется посредством перформативных актов.
В то же самое время ни индивидуум, ни общество не в состоянии полностью контролировать условия, в которых происходит процесс воплощения. Как индивидуум не обладает полной свободой при выборе возможностей для воплощения, а следовательно, при выборе идентичности, так и общество в свою очередь не в силах осуществить абсолютный контроль. Общество может, тем не менее, пытаясь навязать свои условия при выборе возможностей для воплощения, применяя штрафные санкции в случаях неповиновения, однако в целом оно не в состоянии предотвратить уклонение от насаждаемого порядка как таковое. Это означает, что выявленная Остином способность перформативных феноменов разрушать дихтомические структуры,очевидно, играет важную роль и в концепции Батлер. C одной стороны, посредством перформативных актов, формирующих гендер и идентичность в целом, общество осуществляет насилие над телом индивида. С другой стороны, перформативные акты предоставляют отдельной личности возможность для индивидуального воплощения, а именно – с отклонением от укоренившихся в обществе представлений, даже если это сопряжено с санкциями со стороны общества. (Эрика Фишер)
На выставке "Performing for the Camera" были экспонированы фотографии Надара. Аргумент в пользу исторической преемственности - интересный аспект этой выставки. Cтудия Надара выпустила набор изображений звезд театра, воссоздав сцены из их популярных шоу, на фоне соответствующих декораций. Но это не только предшественники современных снимков знаменитостей, эти фотографии указывают на риторический потенциал "позы", как конструкции статической физической позиции, наполненных коммуникативным потенциалом и повествовательным значением. Что Ролан Барт описывает как запас метафор, "грамматику" жестов, которые пришли для обозначения настроения или отношения в широких культурных контекстах, и что общественность воспринимает без обращения к конкретным объяснением. (https://www.academia.edu/27842814/Performing_for_the_camera)(Ruth Rosengarten Exhitition Review Performing for the camera)
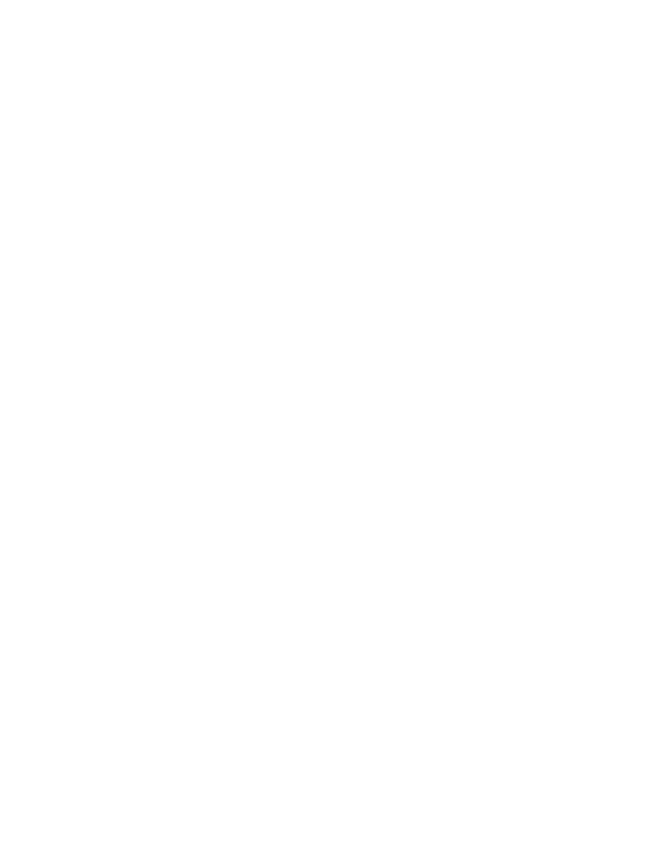
Тему сконструированной идентичности в фотографии и перформансе раскрывает Синди Шерман. Елена Петровская в книге Антифотография (глава "Аффекты тела") пишет: "…гул, несущийся из- далека, вернее сказать, неизвестно откуда, - тайный ужас, внушаемый телом. Хочется добавить: «собственным» телом, но вот тут и начинаются проблемы. «Мое» тело, то, которым только и открывается доступ в мир, с трудом принадлежит «мне». Это тело является площадкой многих фантазмов - социальных, сексуальных, ролевых. Пожалуй, никогда раньше «мое» тело не было от «меня» так далеко, как сегодня, когда все работает на то, чтобы сделать его максимально совершенным и «близким». Но чем больше тело превращается в объект манипулирования, тем больше оно отчуждается и мстит. Мстит невозможностью быть когда-либо присвоенным. Этот микшированный ужас тела, растворенный эхом в повседневности и по-новому объединяющий людей, и исследует фотограф Синди Шерман.

Подчеркнем: аффекты, о которых мы говорим, носят предельно стертый характер. Они суть условия единения, условия идентичности вне всякой идентичности, линии, по которым выстраиваются (не)возможные сообщества. По сути, речь идет о призрачных ликах самой повседневности, которая в остальном по-прежнему неразличима. Она восстанавливается по маршрутам рутинных массовых передвижений, но точно так же кристаллизуется в работах, которые давно перестали быть «произведениями искусства»… Шерман славится тем, что ее фото открывали простор самым разным, часто откровенно конфликтующим интерпретациям. Постараемся ответить на простой вопрос: что общего между «Кадрами из фильмов», и всеми последующими сериями, изображающими те или иные «ипостаси» тела — от оживших «исторических» портретов и разрозненных анатомических муляжей до образов самого отталкивающе-бесформенного?

Вернемся к «Кадрам из фильмов» (1977-80) и посмотрим, что они представляют из себя в категориях жанра. Прежде всего, «film still» генетически есть промежуточный жанр - не совсем кадр, но точно так же и не вполне фотография. «Хотя они, как правило, и снимались фотоаппаратом на площадке, фотограммы (stills) никоим образом не показывают сцены, фактически отснятые. То, чего по-настоящему хотели фотографы, это схватить и передать атмосферу все еще не законченного фильма, и, памятуя об этой цели, они многое себе позволяли (they took all sorts of liberties). Сегодня некоторые из этих изображений более известны, чем фильмы, которые они рекламировали...» Такой «кадр» - это более чем кадр, он синтезирует в себе атмосферу фильма, передает его «суть». Даже если для этого приходится прибегнуть к откровенной инверсии ролей, то есть погре- шить против нарративной правды. Так произошло с «Гигантом» Джеймса Дина: образ этого фильма, благодаря известной фотограмме, связан с Элизабет Тейлор, преклонившей колени перед главным героем. Тот стоит, обвив руками ствол покоящегося на его плечах ружья, - очевидный пара- фраз сцены и иконографии распятия. Однако фильм показывал совсем другое «преклонение», а именно: героя Дина перед героиней Тейлор На ранних этапах киноистории изготовитель фото грамм - безымянный фотограф, работник той самой студии, где снимается картина. Отношение к фотограммам было вспомогательно-коммерческим - они составляли часть рекламной кампании, сопровождавшей выход фильма в прокат. Эти «кадры» выступали родом «превью», застывшим рекламным роликом, адресованным коллективному воображаемому: все, что от них требовалось, это вызывать у зрителей определенные ожидания. Можно сказать, что сама по себе конвенция stills имеет отношение к фантазиям, что их «реальность» служит лишь площадкой для перенесения, скачка - в область этих последних.

В этом смысле stills всегда будут «подлинным» напоминанием: их референт - не конкретная лента, но сплав заведомо неполного, смутного образа - смутного уже по одним его технологическим параметрам, - а также эмоций, которые его сопровождают. Шерман не только использует «код коммерческих образов (imagery)», решительно его перетолковывая, но и усиливает саму их двойственность. Ведь эти остановленные кадры с самого начала предполагают специфический режим прочтения. Режим этот задается тем, что они вдвойне лишены референта: их референтом является даже не фильм, сам по себе отсылающий к вымыслу, но всего лишь образ этого фильма.

Особенность такого образа состоит, однако, в том, что он сразу же - первоначально - возникает как внешний: образ этот не принадлежит индивидуальному сознанию. Он появляется на пересечении рекламы и кинематографа - двух анонимных потоков желаний. И поэтому он приходит «оттуда» - как то, что разделяется всеми до того, как это разделяемое может стать «моим» или «твоим». Замороженный кадр, эта промежуточная, плохо атрибутируемая форма, есть образ самой коллективной связи, ее случайная кристаллизация. Но в качестве таковой он и остается трудно уловимым: это всего лишь локус разных ожиданий. В том числе и ожидания повествования. В фотограмме в свернутом виде содержится и это удовольствие - удовольствие, какое таит в себе нерассказанный рассказ. И Шерман не столько «изображает» желание - при помощи ли женских типажей, и/или ра- зыгрывая ситуацию властного мужского взгляда, - сколько демонстрирует его подвижность и поливалентность - желание скользит по поверхности образа, выхватывая отдельные его элементы, только чтобы тут же их отбросить: элементы эти для него всегда случайны. Двойственность фотограмм усиливается тем, что Артур Данто определяет как единство (но и напряжение) между перформансом и фотографией. При этом жанровая уникальность stills заключается еще и в том, что принимаемая в них поза априорным образом фотографична: она взята из языка самих фотограмм, и даже если бы ее никогда не засняли на пленку, все равно она фигурировала бы как «фотографический эквивалент tableau vivant». Фотоаппарат, иначе говоря, входит в сам «состав» такого ос- тановленного кадра.

Однако это совпадение как раз и запускает в ход иной механизм - на сей раз различительный. Он проявляется, в частности, в отношении к самим изображениям. Если одни критики видят в «Stills» почти брехтовское, то есть сознательно отстраняющее, использование приема и материала, когда «нет убедительности», например, в подобранных костюмах, то другие, напротив, хвалят Шерман за то, что она -«высокий художник», способный «надлежащим образом» выстроить жанровые типы, будь то suspense, film noir или нео- реализм*. Мы уже говорили о том, что искусственность и даже небрежность шермановских «кадров» является условием их «совершенства»: глаз зрителя получает в них лишь визуальную под- сказку. Позы Шерман, возможно, точны, но равным образом необязательны - они и должны быть своеобразными частичными объектами.
«Попадание» Шерман, ее «точность» заключаются в том, что изображение должно смещаться в область неизобразимого, вернее, оно должно с самого начала предусматривать возможность собственного искажения. Образ дан как зыбкий уже на уровне са- мих условий восприятия: фотография, сведенная к набору поз, значит - откровенным образом «не- видная»; кино, существующее лишь в двойном предощущении виртуальных фильма и рассказа.
Примечательно, что still и объединяет в себе различные типы неполноты, представленные в виде стольких обещаний (это, пожалуй, и есть единственное «место» представления): фотография обещает кино, кино обещает рассказ, рассказ, препарированный в фото, обещает удовлетворение. Однако эта система перекрестных ссылок и образует фактическую полноту любого остановленного кадра: он держится круговой порукой взаимоподкрепляемых желаний. Исследуя пустую оболочку «кадра», Шерман тем самым обнажает структуру самой коллективной мечты."
«Попадание» Шерман, ее «точность» заключаются в том, что изображение должно смещаться в область неизобразимого, вернее, оно должно с самого начала предусматривать возможность собственного искажения. Образ дан как зыбкий уже на уровне са- мих условий восприятия: фотография, сведенная к набору поз, значит - откровенным образом «не- видная»; кино, существующее лишь в двойном предощущении виртуальных фильма и рассказа.
Примечательно, что still и объединяет в себе различные типы неполноты, представленные в виде стольких обещаний (это, пожалуй, и есть единственное «место» представления): фотография обещает кино, кино обещает рассказ, рассказ, препарированный в фото, обещает удовлетворение. Однако эта система перекрестных ссылок и образует фактическую полноту любого остановленного кадра: он держится круговой порукой взаимоподкрепляемых желаний. Исследуя пустую оболочку «кадра», Шерман тем самым обнажает структуру самой коллективной мечты."

Мерло-Понти в "Феноменологии восприятия", размышляя о теле как объекте выявляет два дефекта. "Согласно этой гипотезе, анозогнозия – это отсутствие в представлении тела какого-то фрагмента, который тем не менее должен быть налицо, поскольку соответствующий орган на месте; а фантомный орган – это присутствие части представления тела, которой у нас не должно быть, поскольку соответствующий орган отсутствует… фантомный орган становится воспоминанием, позитивным суждением или восприятием, а анозогнозия – забвением, суждением негативным или отсутствием восприятия…В действительности анозогнозик не просто игнорирует парализованный орган: он способен отвлечься от дефекта лишь потому, что знает, где ему надо опасаться встречи с ним…мы избегаем вопросов, чтобы не услышать эту тишину."
"Тело – это то, что сообщает миру бытие, и обладать телом означает для живущего сращиваться с определенной средой, сливаться воедино с определенными проектами и непрерывно в них углубляться."
То есть позирование, в котором проявляется объективация тела, можно рассмотреть как парализованную часть субъекта. К примеру Линдер (LINDER) в проекте She/She повторяет позы из модных журналов и добавляет к своему телу обрывки из них, выявляя тем самым "застывшие" части женской идентичности, которые формирует массовая культура.
"Тело – это то, что сообщает миру бытие, и обладать телом означает для живущего сращиваться с определенной средой, сливаться воедино с определенными проектами и непрерывно в них углубляться."
То есть позирование, в котором проявляется объективация тела, можно рассмотреть как парализованную часть субъекта. К примеру Линдер (LINDER) в проекте She/She повторяет позы из модных журналов и добавляет к своему телу обрывки из них, выявляя тем самым "застывшие" части женской идентичности, которые формирует массовая культура.




Ролан Барт в Camera lucida пишет: "Фотопортрет представляет собой закрытое силовое поле. На нем пересекаются, противостоят и деформируют друг друга четыре вида воображаемого. Находясь перед объективом, я одновременно являюсь
тем, кем себя считаю,
тем, кем я хотел бы, чтобы меня считали,
тем, кем меня считает фотограф,
и тем, кем он пользуется, чтобы проявить свое искусство.
Странное, иначе говоря, действо: я непрестанно имитирую самого себя, и в силу этого каждый раз, когда я фотографируюсь (позволяя себя сфотографировать), меня неизменно посещает ощущение неаутентичности, временами даже поддельности, какое бывает при некоторых кошмарах." (c. 24)
В проекте Strip Джемима Стейли (Jemima Stehli) исполняет стриптиз перед несколькими мужчинами (индивидуально для каждого). Мужчина держит пульт от камеры и фотографирует процесс раздевания. Все приглашенные мужчины – представители арт-тусовки (арт мира-можно заменить): критики, писатели и кураторы.
В своем действии Джемима Стейли обнажает процесс объективации тела женщины и тела художницы, заостряя вопрос, в какой момент объективация происходит внутри нас, и мы сами становимся ее добровольными участниками.
(о проекте - http://www.refinery29.uk/2016/02/102395/jemima-ste...)
тем, кем себя считаю,
тем, кем я хотел бы, чтобы меня считали,
тем, кем меня считает фотограф,
и тем, кем он пользуется, чтобы проявить свое искусство.
Странное, иначе говоря, действо: я непрестанно имитирую самого себя, и в силу этого каждый раз, когда я фотографируюсь (позволяя себя сфотографировать), меня неизменно посещает ощущение неаутентичности, временами даже поддельности, какое бывает при некоторых кошмарах." (c. 24)
В проекте Strip Джемима Стейли (Jemima Stehli) исполняет стриптиз перед несколькими мужчинами (индивидуально для каждого). Мужчина держит пульт от камеры и фотографирует процесс раздевания. Все приглашенные мужчины – представители арт-тусовки (арт мира-можно заменить): критики, писатели и кураторы.
В своем действии Джемима Стейли обнажает процесс объективации тела женщины и тела художницы, заостряя вопрос, в какой момент объективация происходит внутри нас, и мы сами становимся ее добровольными участниками.
(о проекте - http://www.refinery29.uk/2016/02/102395/jemima-ste...)
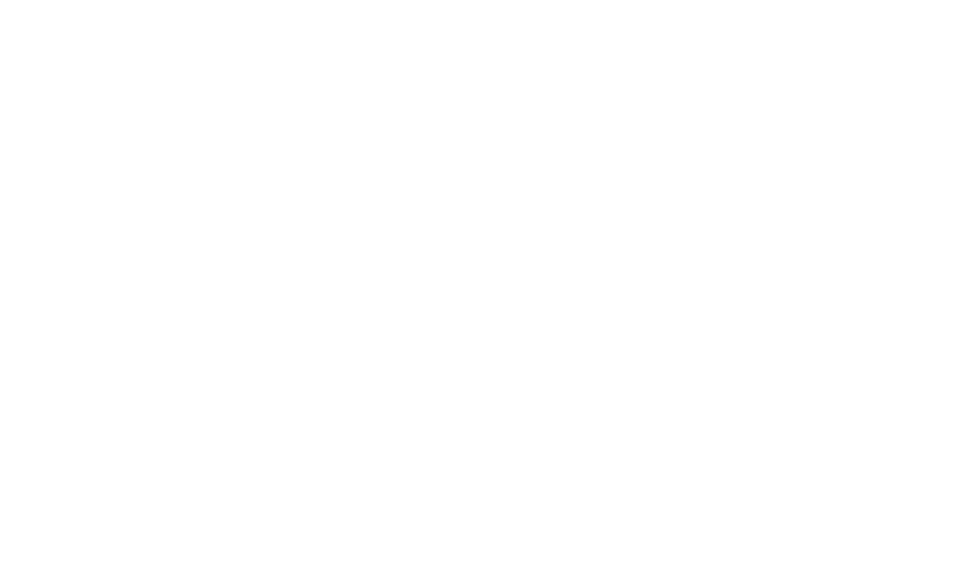
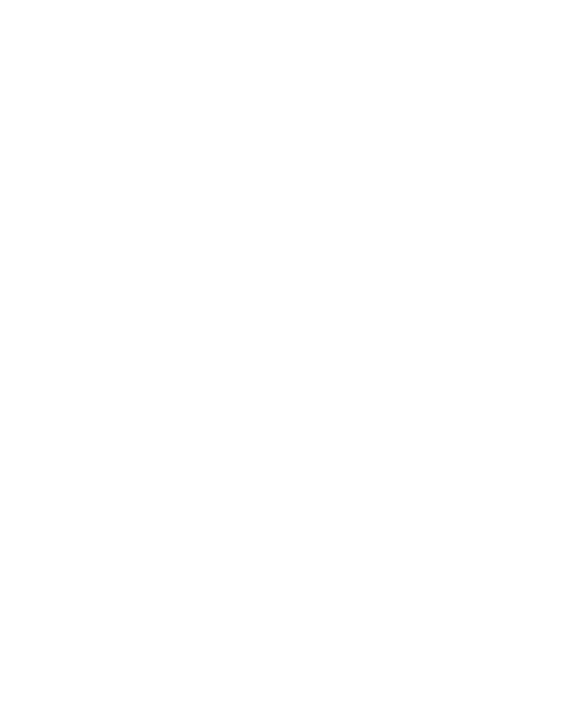
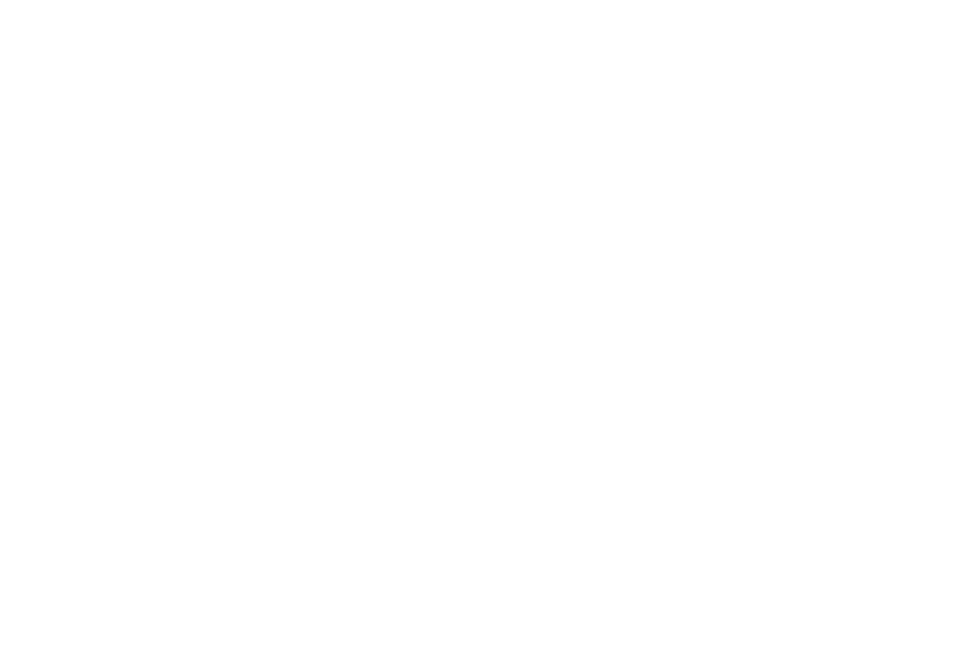
В серия фотографий "Gardeners" Keith Arnatt



Никки С Ли





Развивая тему идентичности в цифровой среде, Amalia Ulman в проекте Excellences & Perfections создает аккаунт в инстаграм https://www.instagram.com/amaliaulman/?hl=en
Художница сконструировала симулякр социальных сетей, копируя позы и популярные фотографии инстаграма. Большинство подписчиков не понимали, что это художественный проект.
То есть Amalia Ulman выявила стереотипные, собирательные позы и изображения, которые утрируют вопрос отсутствия оригинала, как в ее проекте, так и в фотографиях, которые она копирует.
упоминание проекта - http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/performing-for-the-camera-5-key-artists
Художница сконструировала симулякр социальных сетей, копируя позы и популярные фотографии инстаграма. Большинство подписчиков не понимали, что это художественный проект.
То есть Amalia Ulman выявила стереотипные, собирательные позы и изображения, которые утрируют вопрос отсутствия оригинала, как в ее проекте, так и в фотографиях, которые она копирует.
упоминание проекта - http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/performing-for-the-camera-5-key-artists

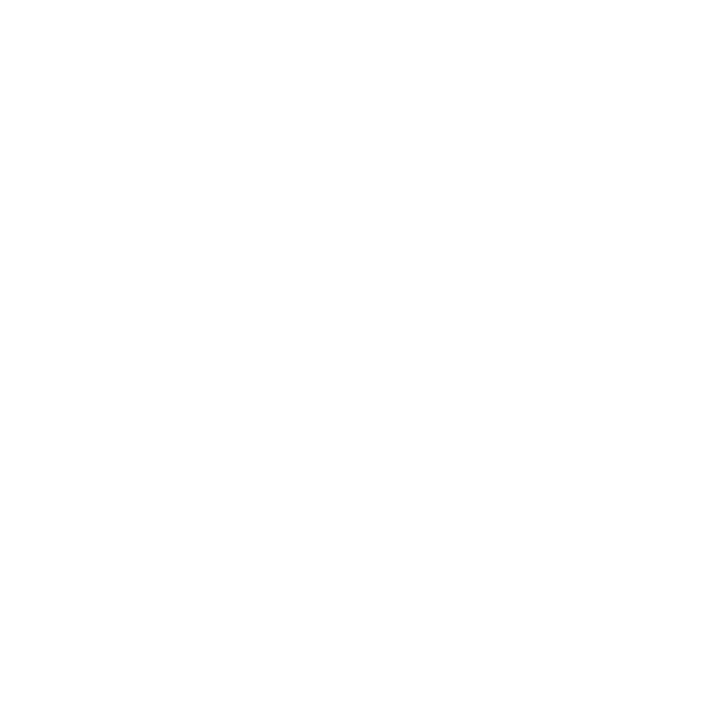
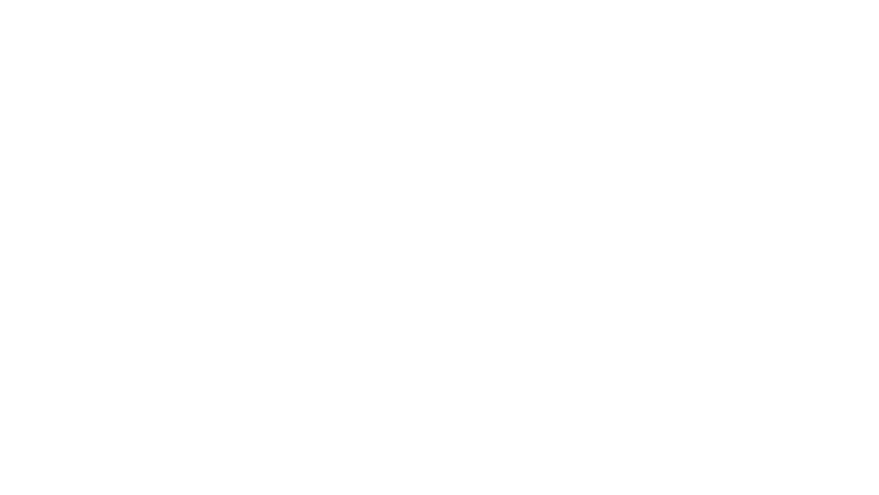
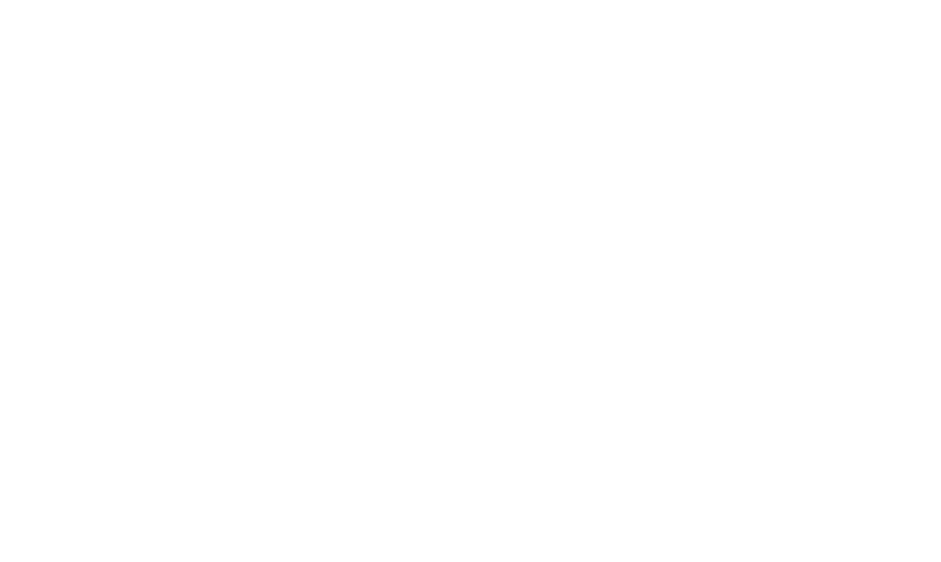
Мерло-Понти в "Феноменологии восприятия" останавливается на следующих аспектах телесного: «Если нам случится обнаружить опыт за пределами объективного мышления, то этот переход будет обусловлен только его собственными затруднениями.Так рассмотрим же его в деле, то есть в организации нашего тела как объекта, ибо решающий момент в генезисе объективного мира. Мы увидим, что собственное тело ускользает – в той же науке – от режима, который ему хотят навязать. И поскольку генезис объективного тела – это всего лишь момент в конституировании объекта,покидая объективный мир, тело увлекает за собой интенциональные нити, которые связывают его с его окружением, и в итоге являет нам как воспринимающего субъекта, так и воспринимаемый мир… Всякое настоящее может заявлять свое право на то, чтобы остановить нашу жизнь, это как раз и определяет его в качестве настоящего. Коль скоро оно выдает себя за тотальность бытия и на мгновение заполняет сознание, нам никогда не выбраться из него полностью, но время не исчерпывается им окончательно, оно остается чем-то вроде раны, через которую истекает наша сила. С тем большим основанием это особое прошлое, каким является наше тело, может быть схвачено и присвоено индивидуальной жизнью лишь потому,что она так и не вышла за его пределы, что она потихоньку его питает и тратит на него какую-то часть своих сил, что это прошлое остается ее настоящим, как это можно видеть во время болезни, когда события тела становятся событиями дня."
Джиллиан Уэринг воссоздала ряд фотографий из своего семейного альбома. При помощи силиконовых масок она примерила на себя образы своих близких и себя самой в возрасте 3 и 17 лет. Художница отмечала, что её всегда поражало, насколько разными могут быть люди, даже несмотря на генетические связи. Единственное, что «роднит» все эти фотографии, это взгляд самой Джиллиан Уэринг, который узнается под всеми масками. Кроме того, вокруг глаз можно заметить контур маски, который специально был оставлен, дабы зритель мог осознавать, что именно он видит перед собой.
(http://contemporary-artists.ru/Gillian_Wearing.htm...)
То есть художница проявляет телесные "фантомы-воспоминания" про которые писал Мерло-Понти, этой части уже нет, но мы ощущаем ее присутствие.
" Фантомная рука – это как бы вытесненный опыт, былое настоящее, которое никак не хочет становиться прошлым."(c 123)
Джиллиан Уэринг воссоздала ряд фотографий из своего семейного альбома. При помощи силиконовых масок она примерила на себя образы своих близких и себя самой в возрасте 3 и 17 лет. Художница отмечала, что её всегда поражало, насколько разными могут быть люди, даже несмотря на генетические связи. Единственное, что «роднит» все эти фотографии, это взгляд самой Джиллиан Уэринг, который узнается под всеми масками. Кроме того, вокруг глаз можно заметить контур маски, который специально был оставлен, дабы зритель мог осознавать, что именно он видит перед собой.
(http://contemporary-artists.ru/Gillian_Wearing.htm...)
То есть художница проявляет телесные "фантомы-воспоминания" про которые писал Мерло-Понти, этой части уже нет, но мы ощущаем ее присутствие.
" Фантомная рука – это как бы вытесненный опыт, былое настоящее, которое никак не хочет становиться прошлым."(c 123)
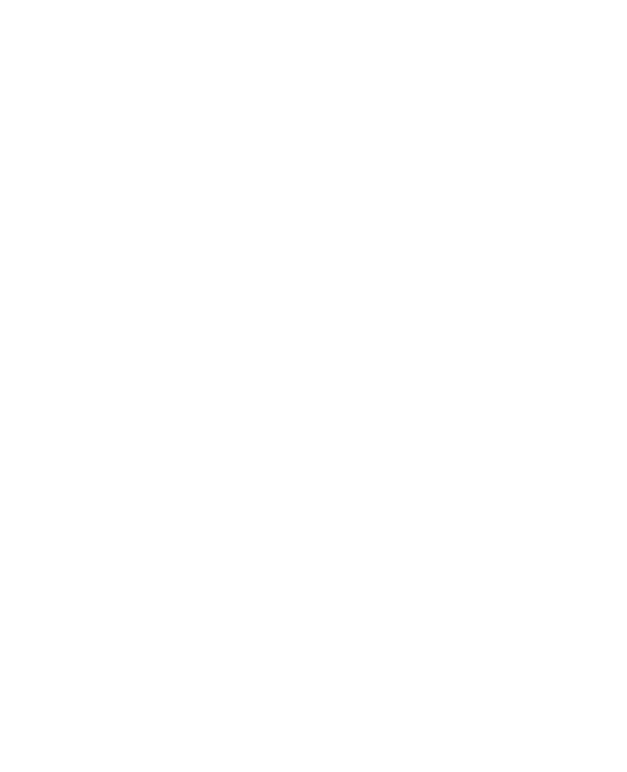
(GILLIAN WEARING Self-Portrait at Three Years Old, 2004)
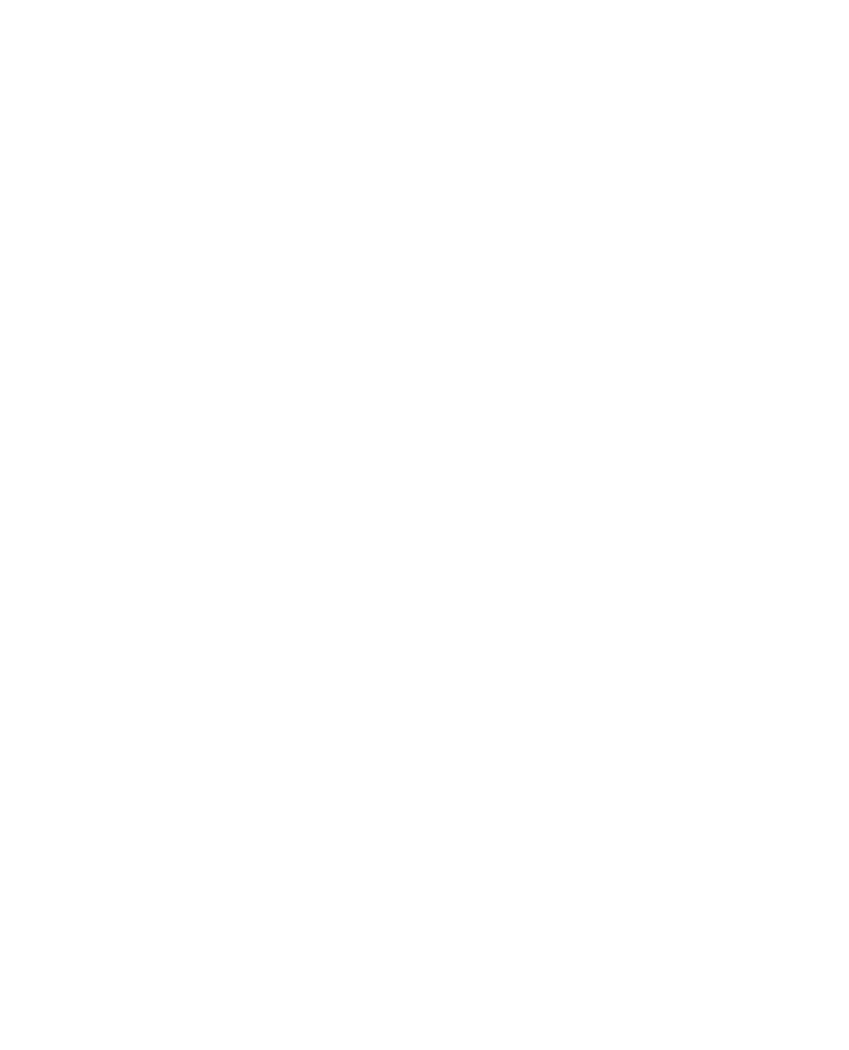
(GILLIAN WEARING Self-Portrait 17 years old)
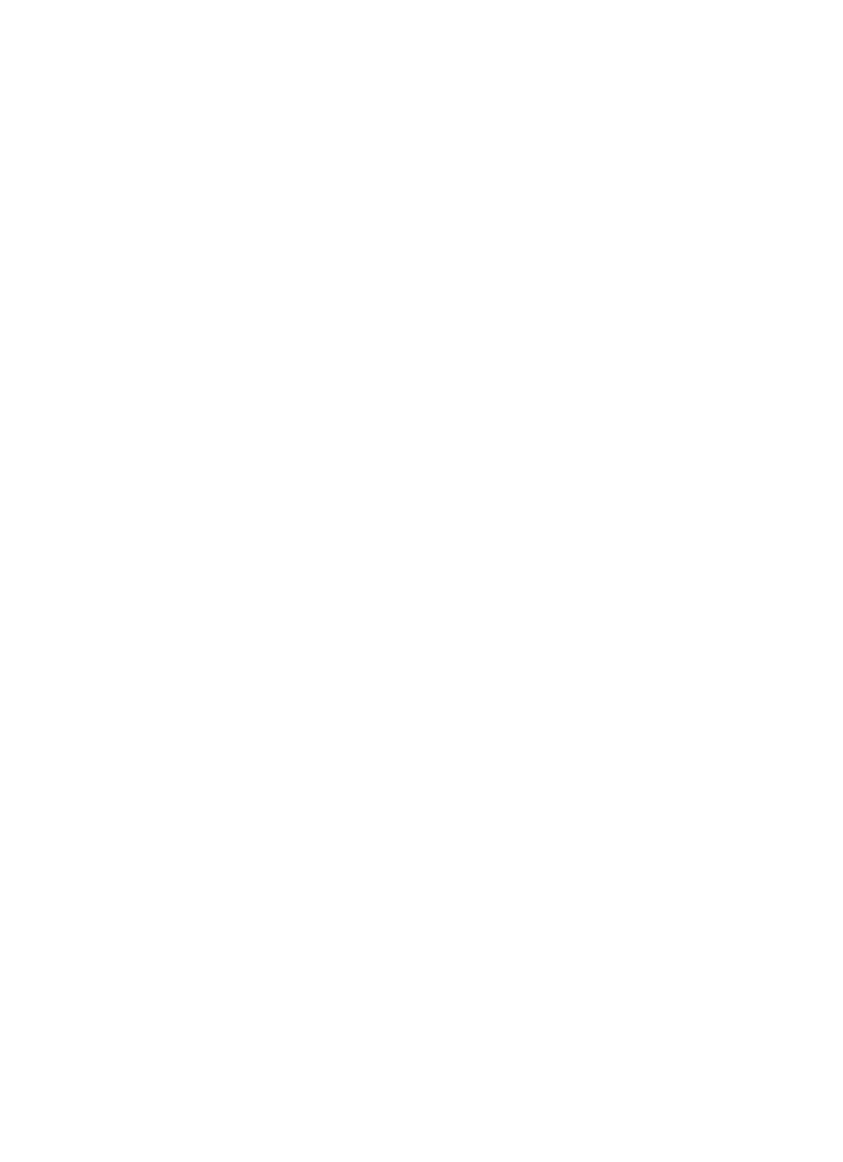
(В маске отца в 23 года, 2003 )
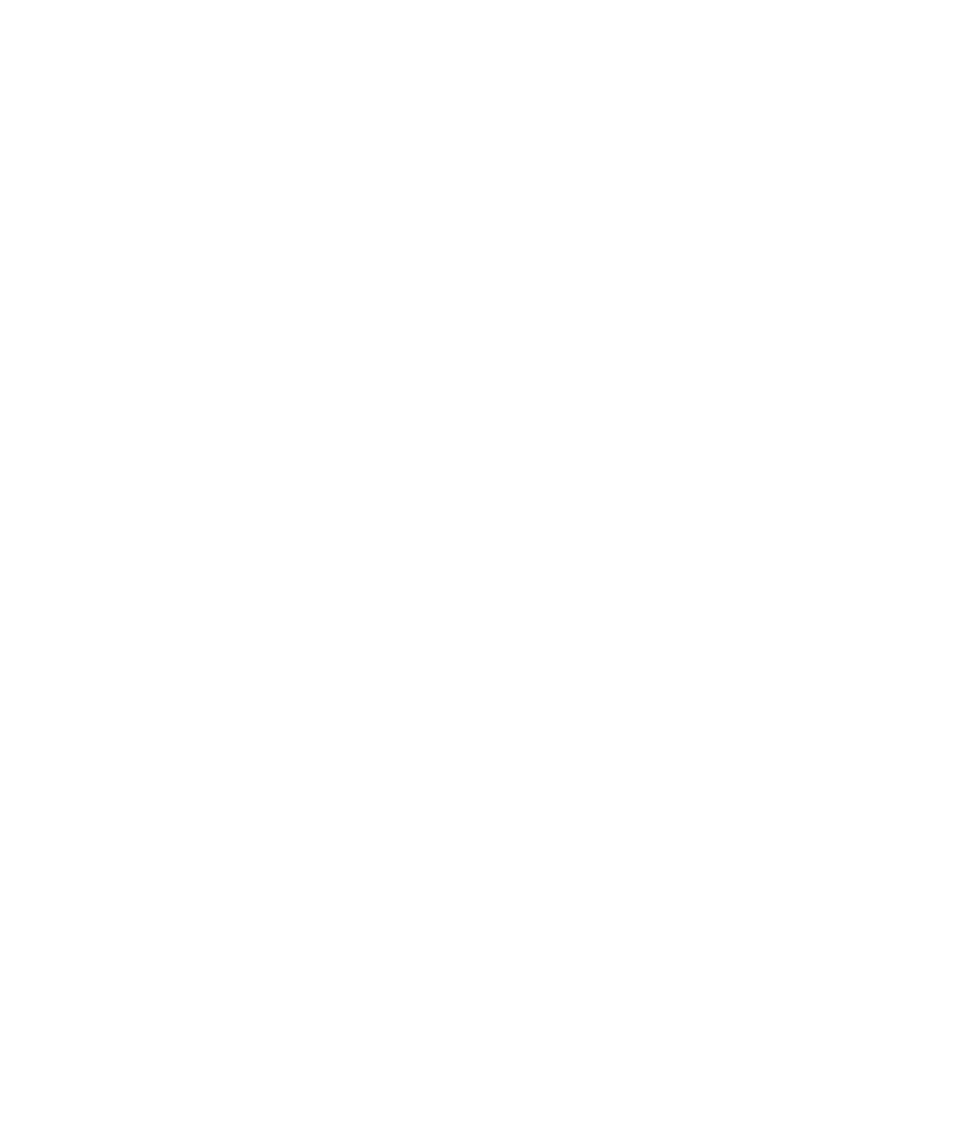
В маске матери в 23 года, 2003
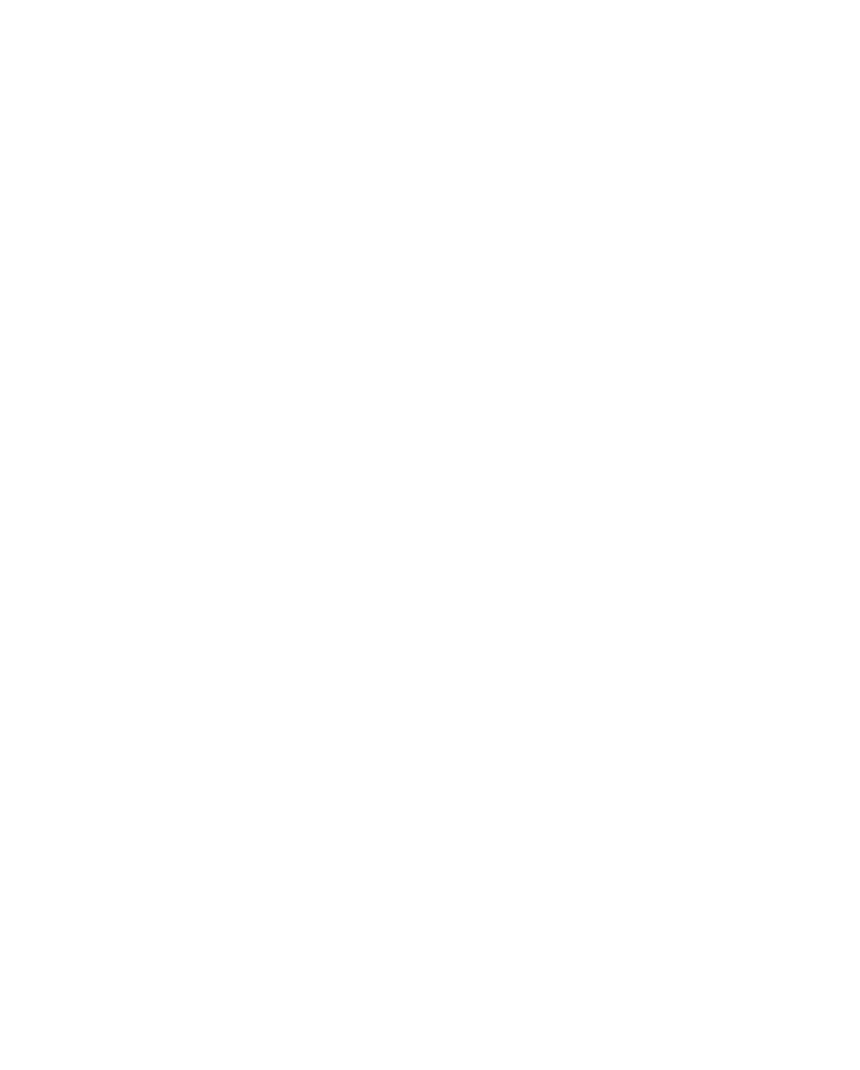
(В маске сестры в 16 лет, 2003)
