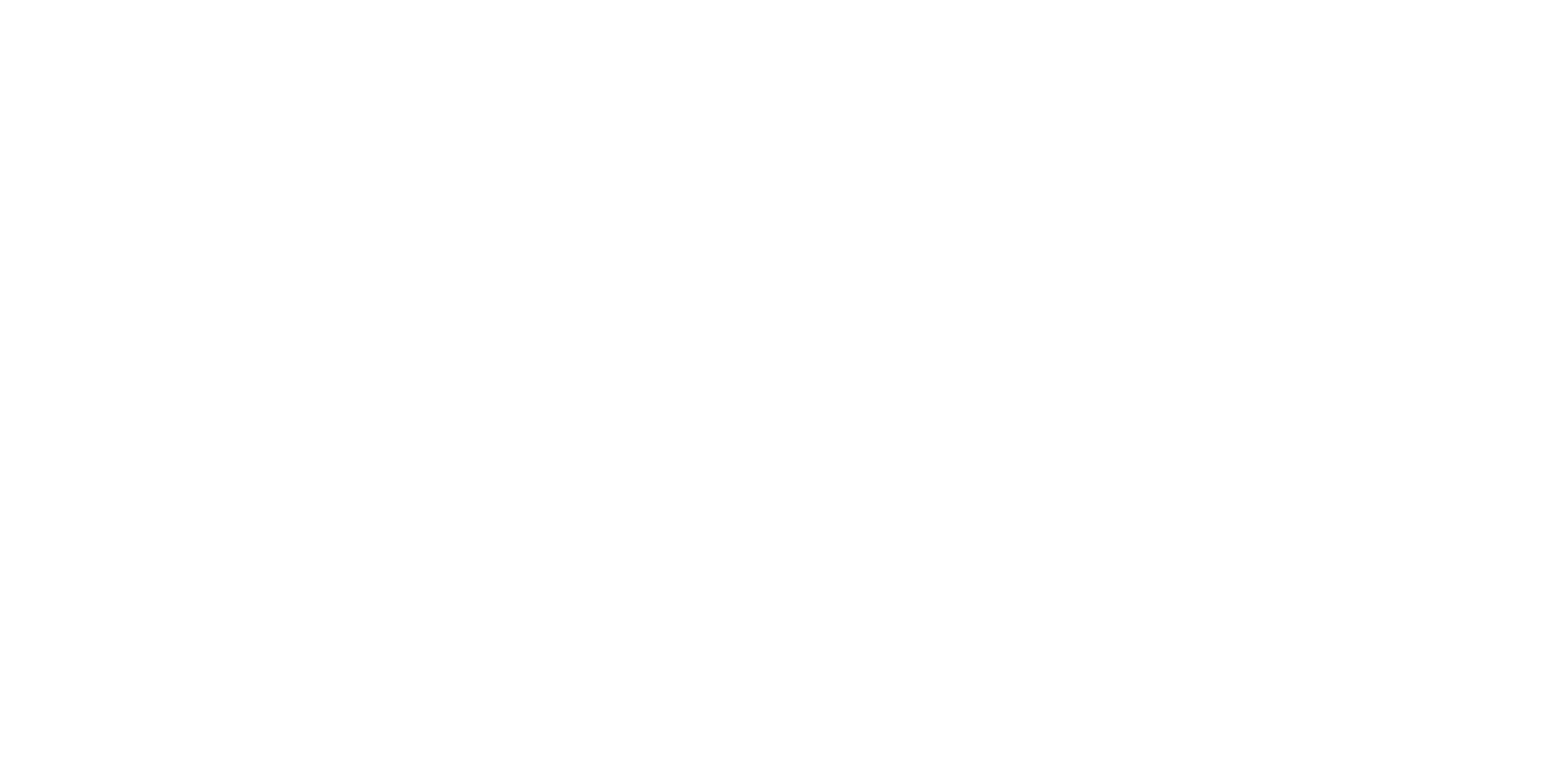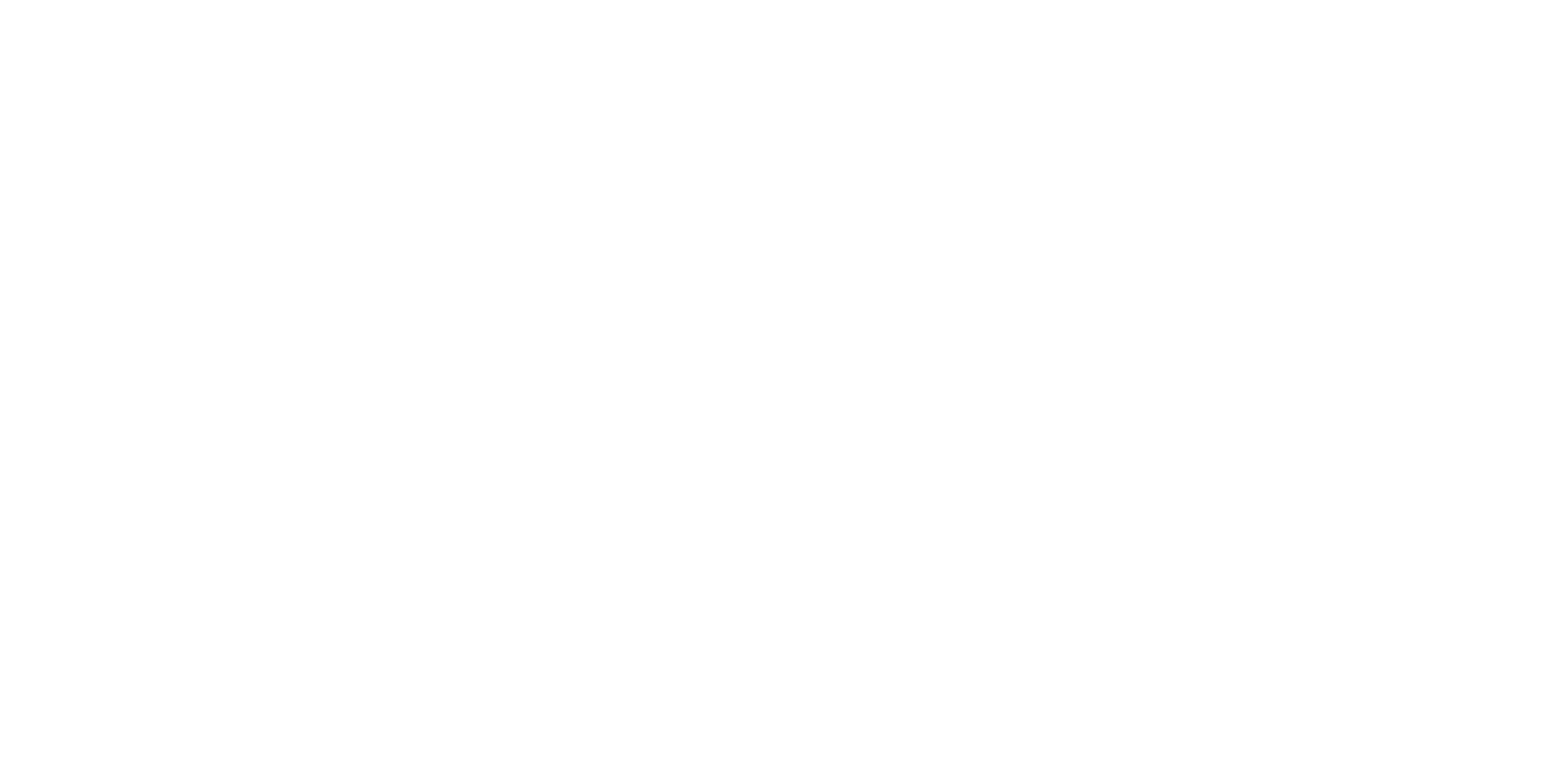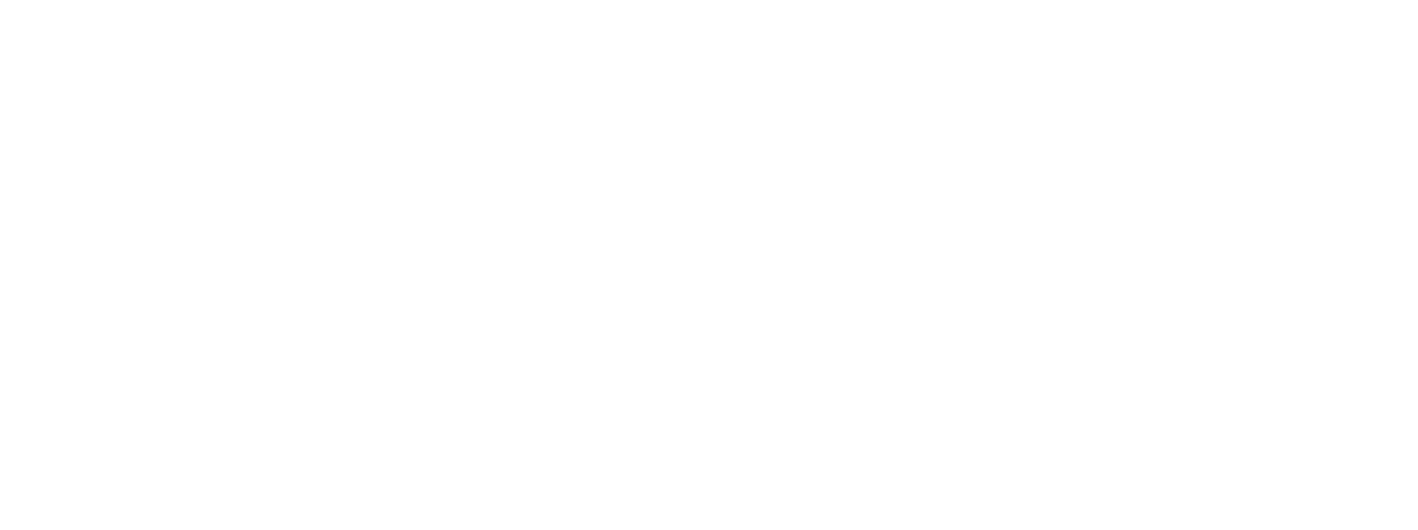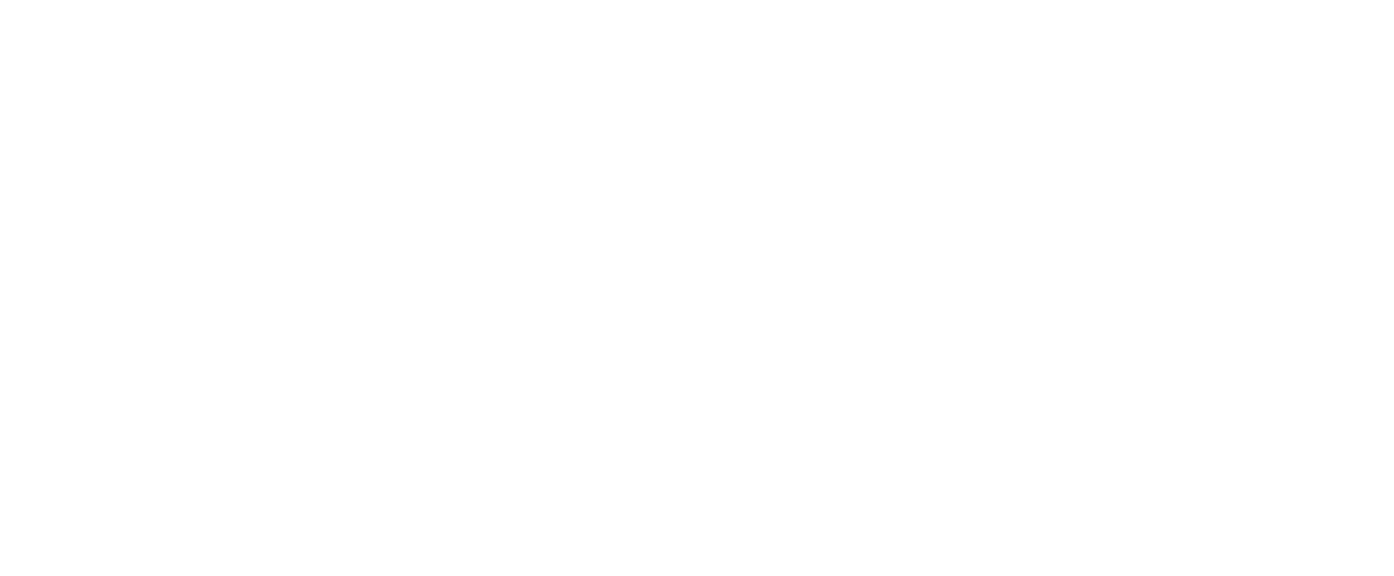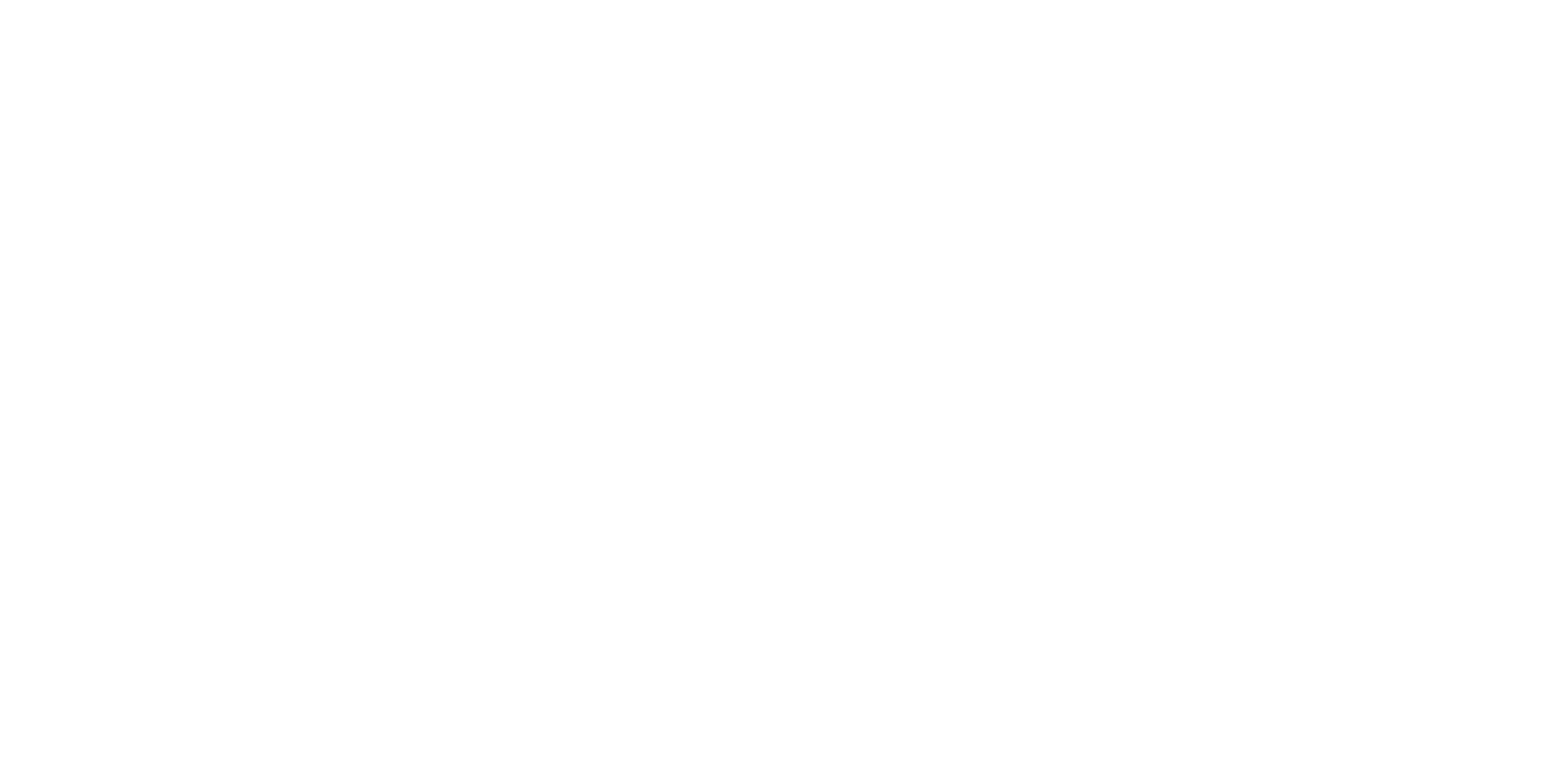21.12


Проект начался с папки найденных фотографий ремонта в интернете, я бесцельно сортировала их по категориям. Затем я стала задействовать в своих инсталляциях строительные и ремонтные материалы. На протяжении года я жила в комнате с инсталляциями ремонта. Это был способ осознать и прочувствовать перестройки, которые происходили внутри меня, способ проживания изменений.
Проект соединился в серию перформативных фотографий, в комнате выстраивается своеобразный каталог телесных переживаний, архив состояний, который оседает в теле. Изображения инсталляций в комнате перемешиваются с изображениями найденными в интернете. Информационный фон проникает в личное пространство и граница виртуального и реального теряется. Ментальные конструкции субъективных состояний мимикрируют под среду и соединятся в общее пространство.
Проект соединился в серию перформативных фотографий, в комнате выстраивается своеобразный каталог телесных переживаний, архив состояний, который оседает в теле. Изображения инсталляций в комнате перемешиваются с изображениями найденными в интернете. Информационный фон проникает в личное пространство и граница виртуального и реального теряется. Ментальные конструкции субъективных состояний мимикрируют под среду и соединятся в общее пространство.
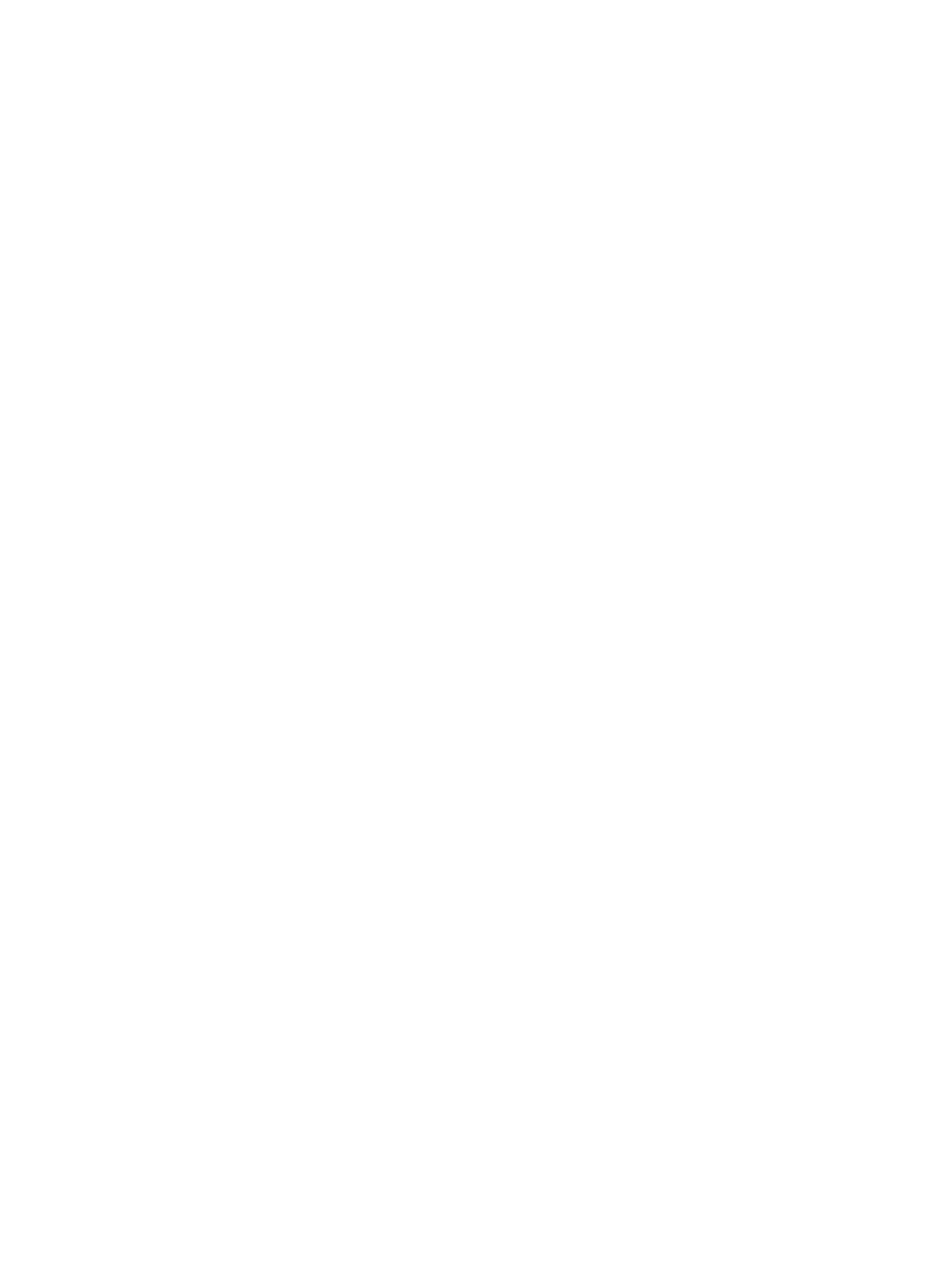
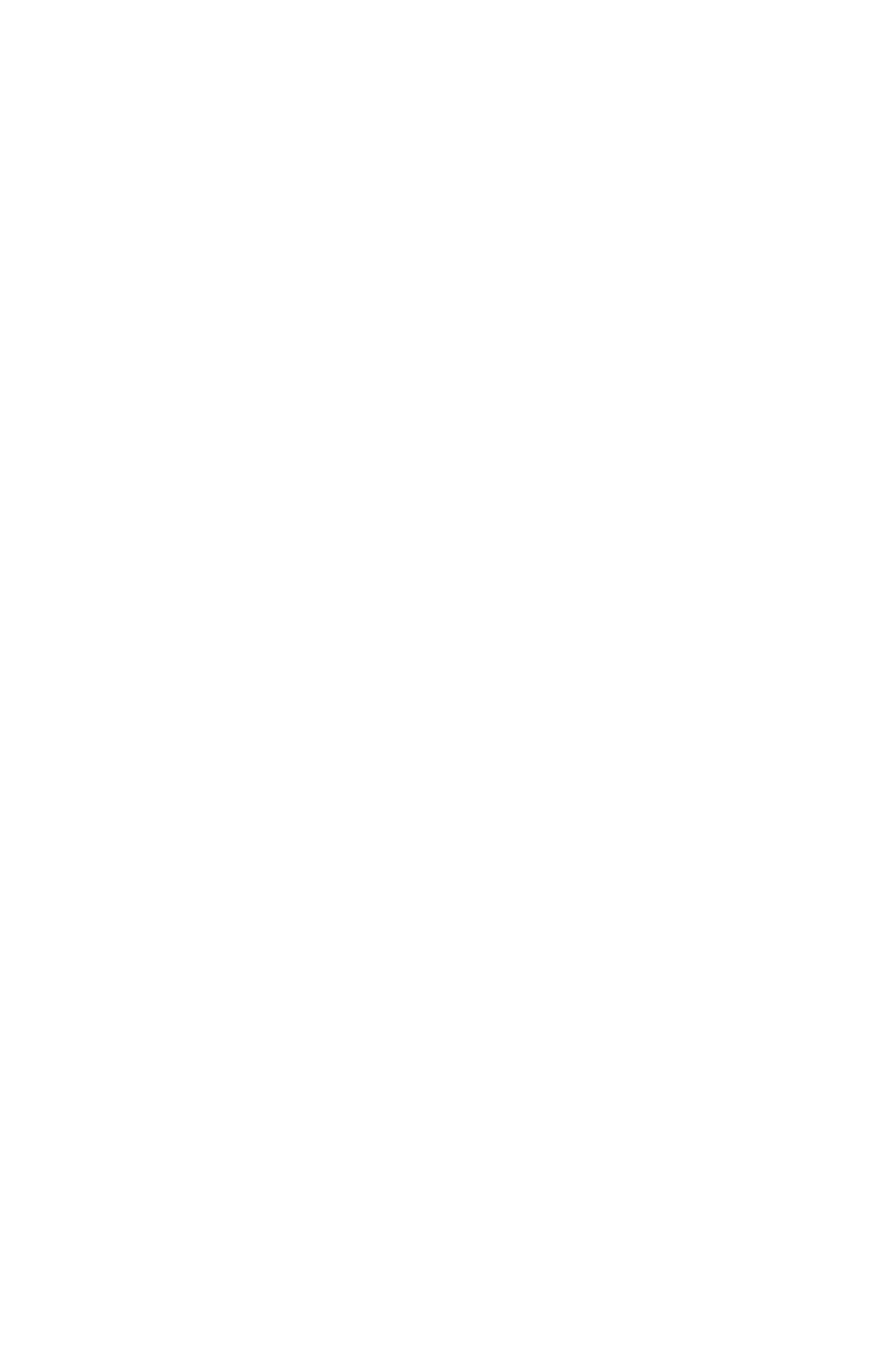

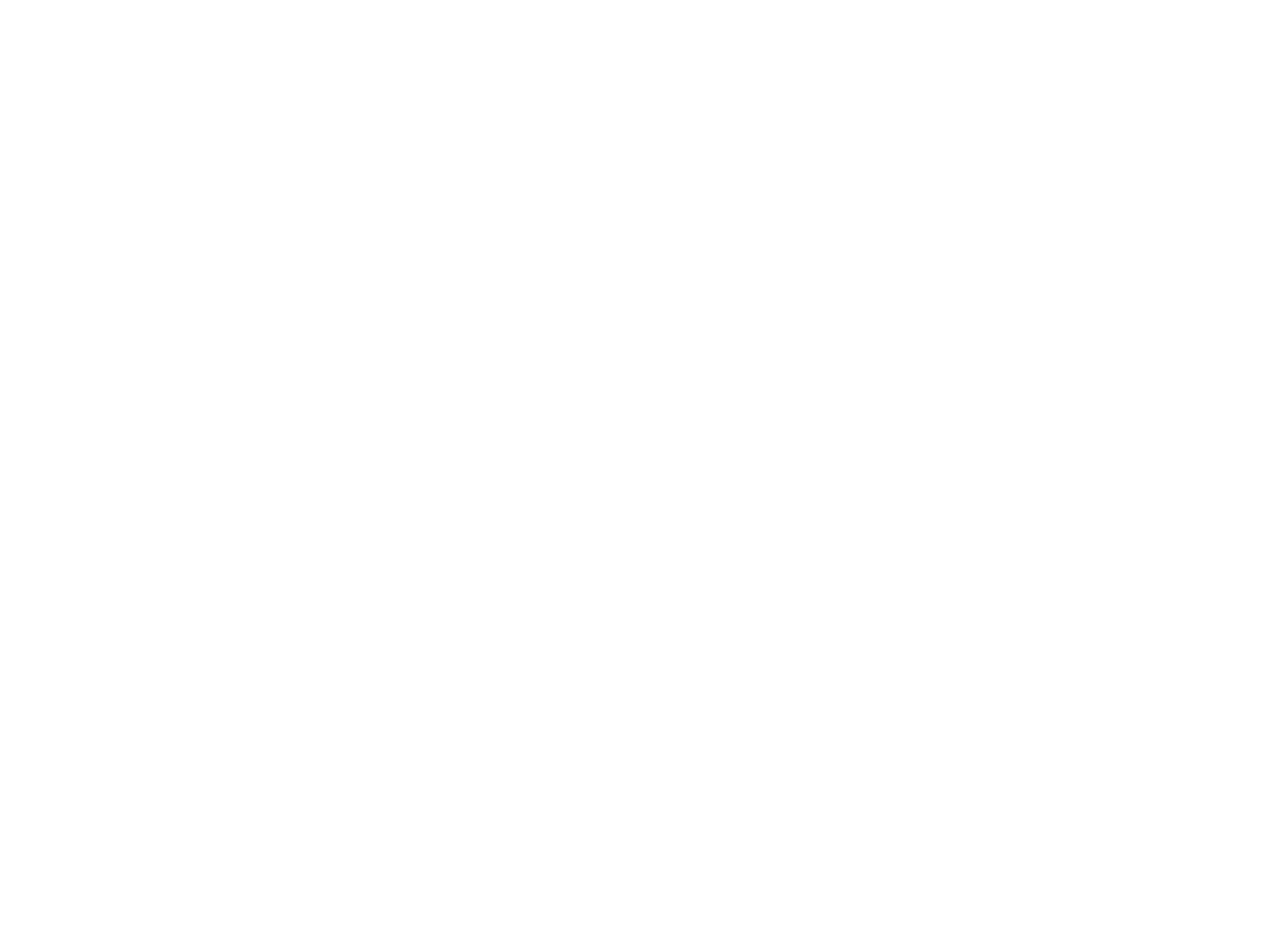

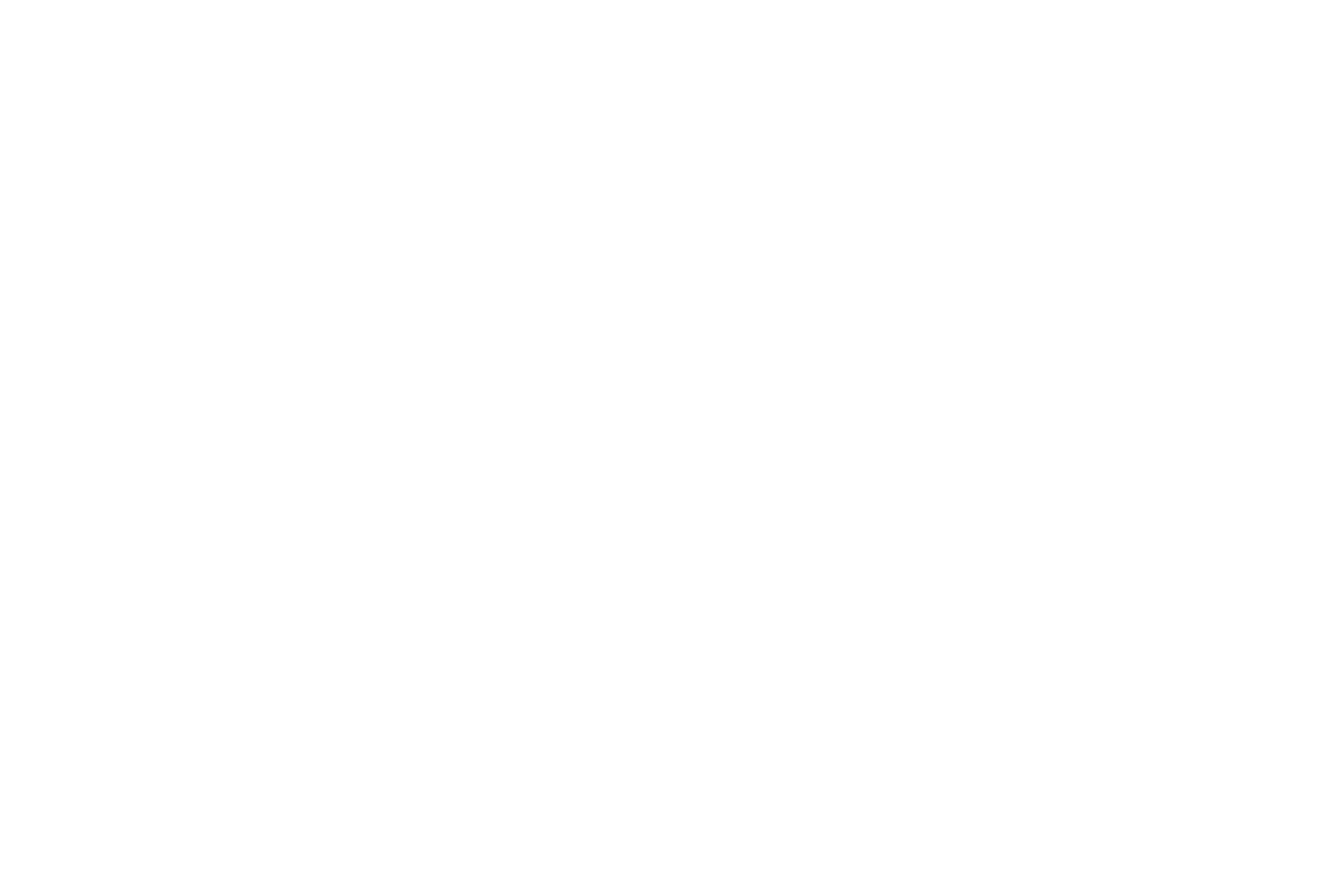
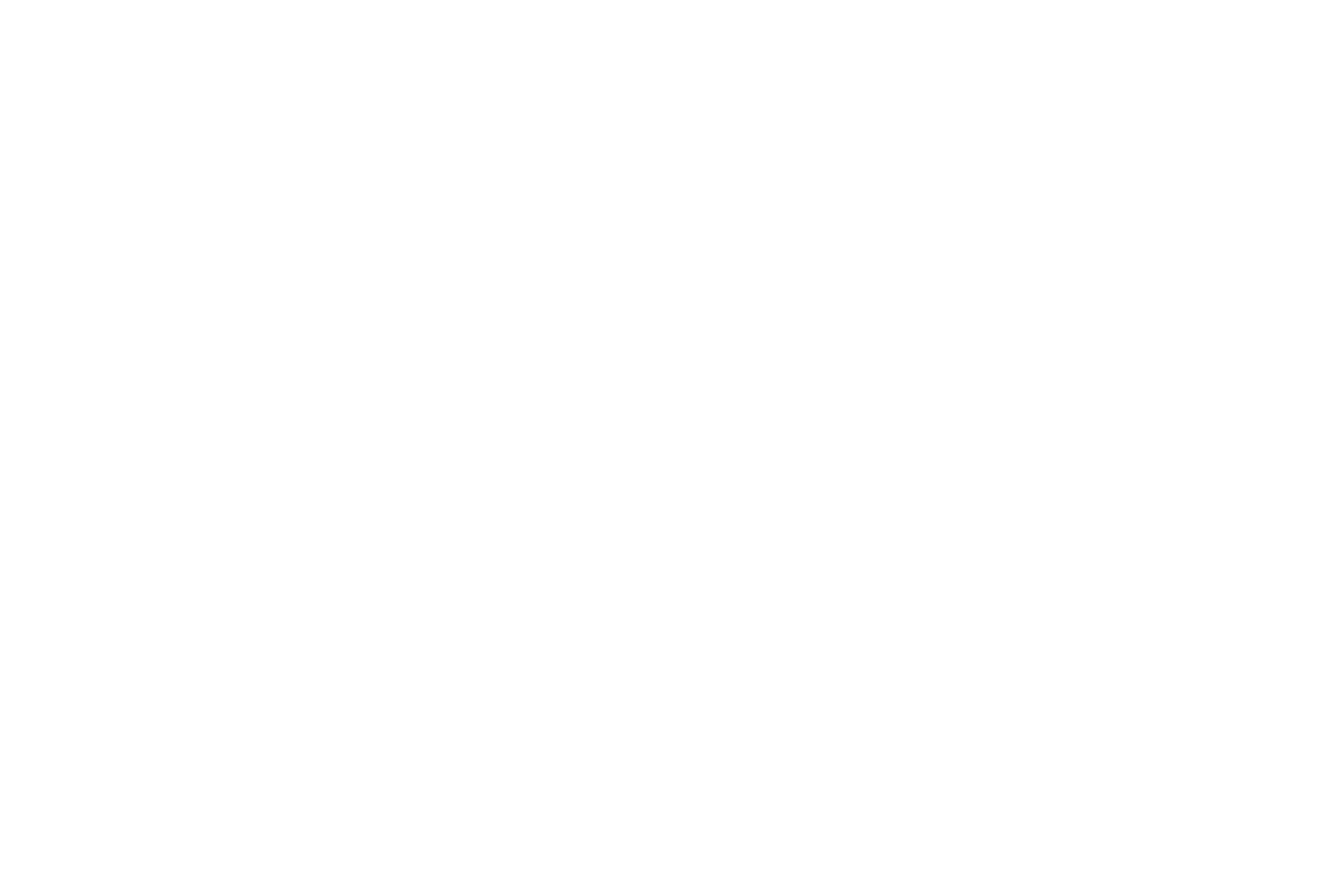
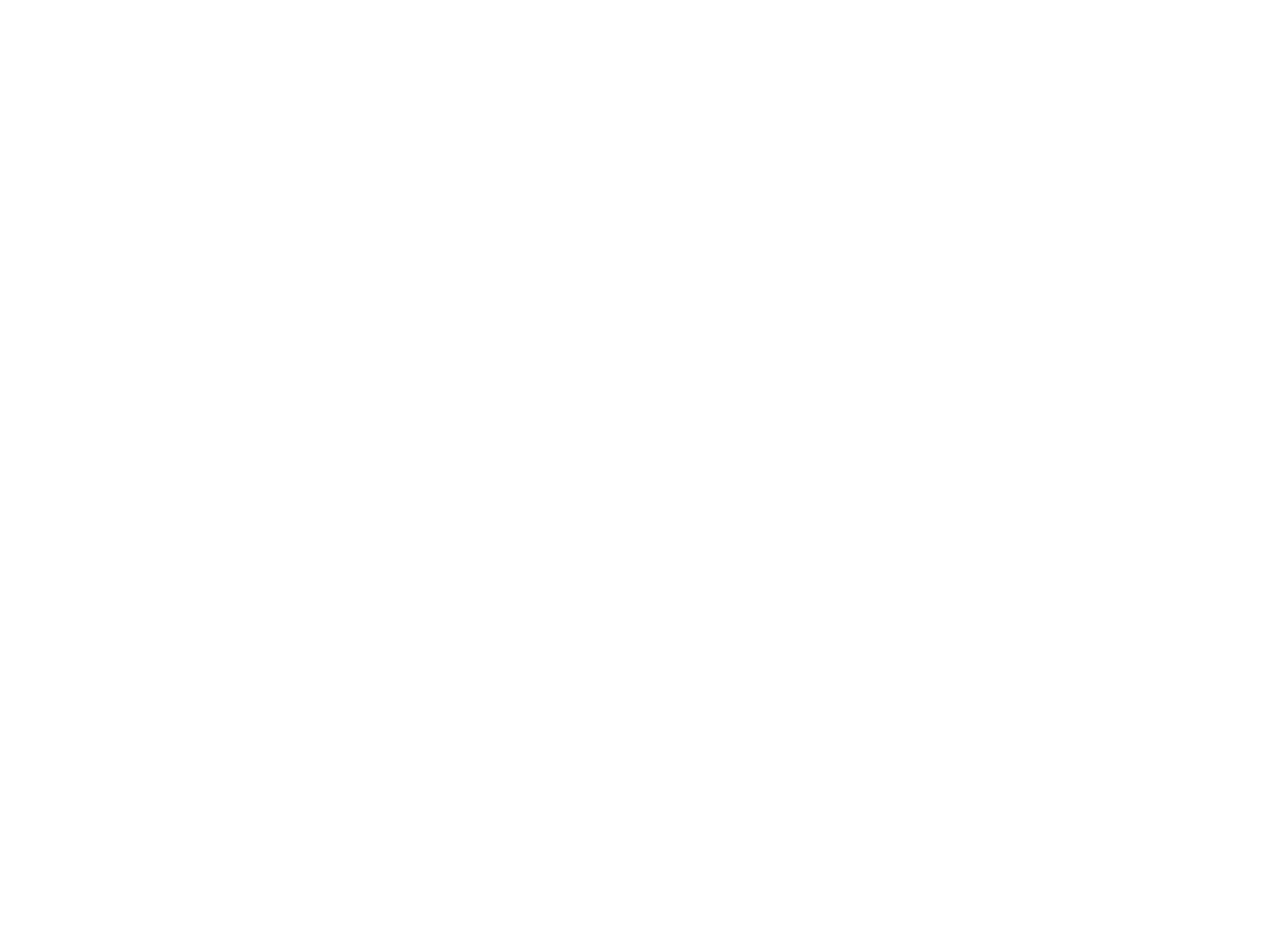
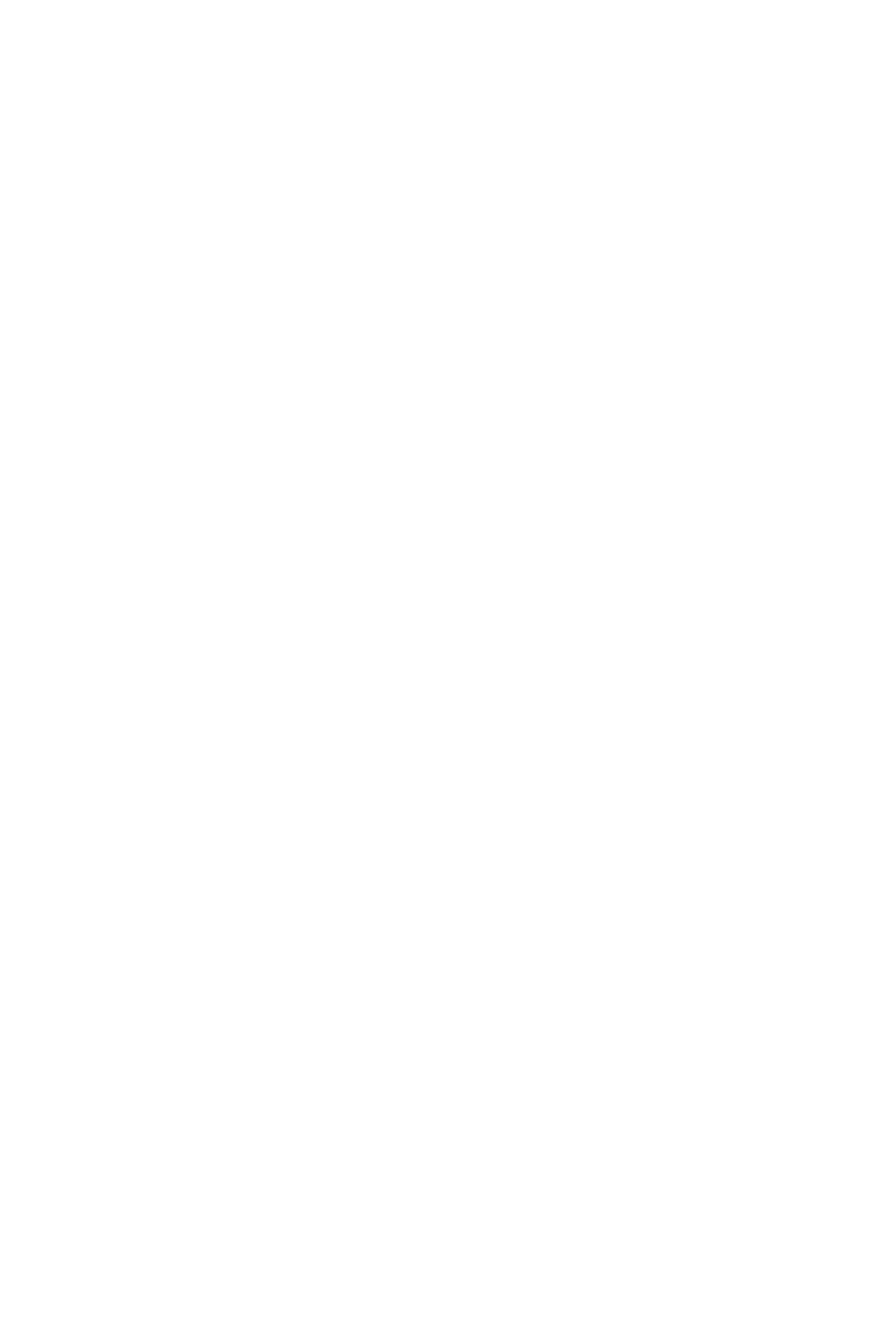
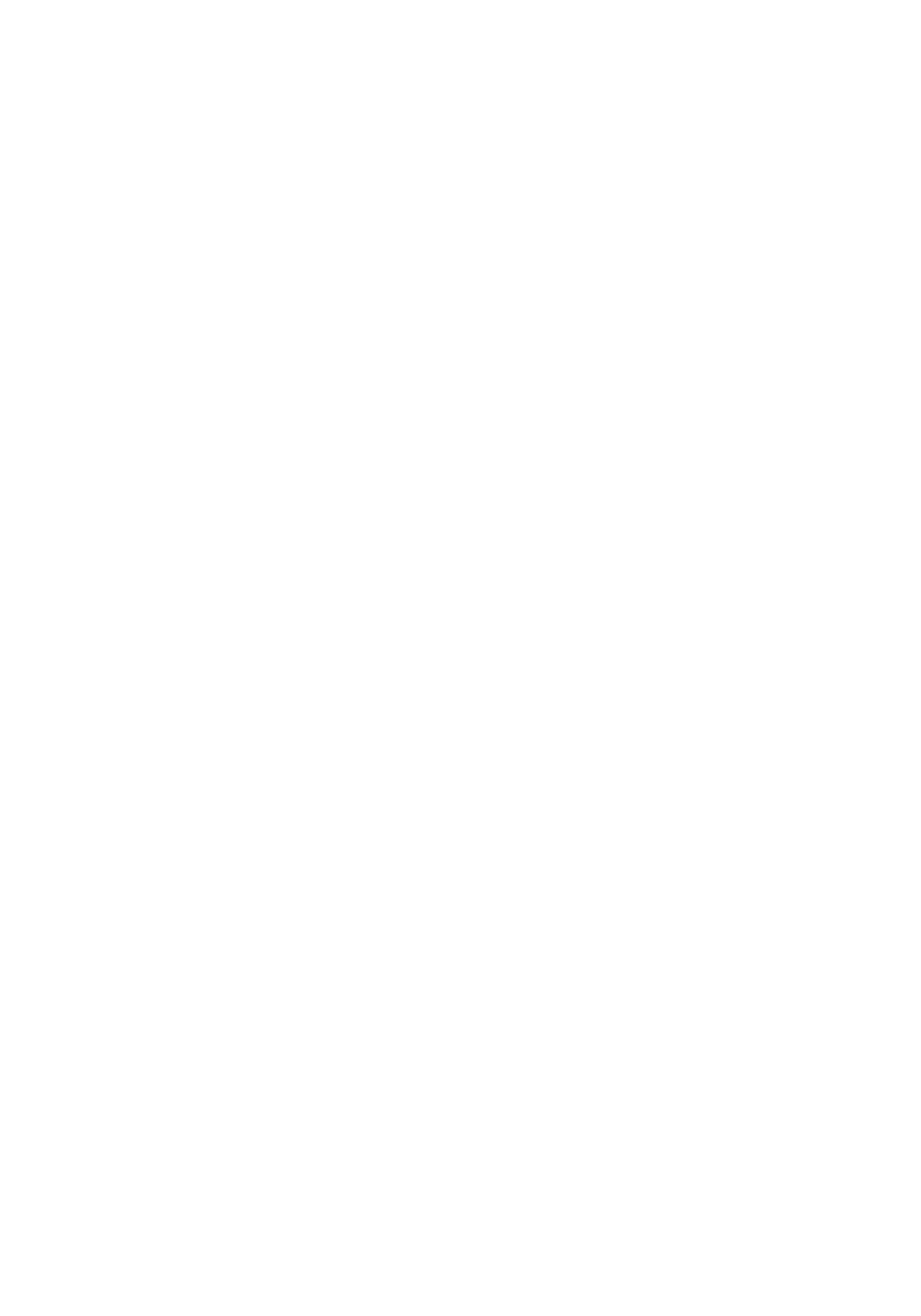
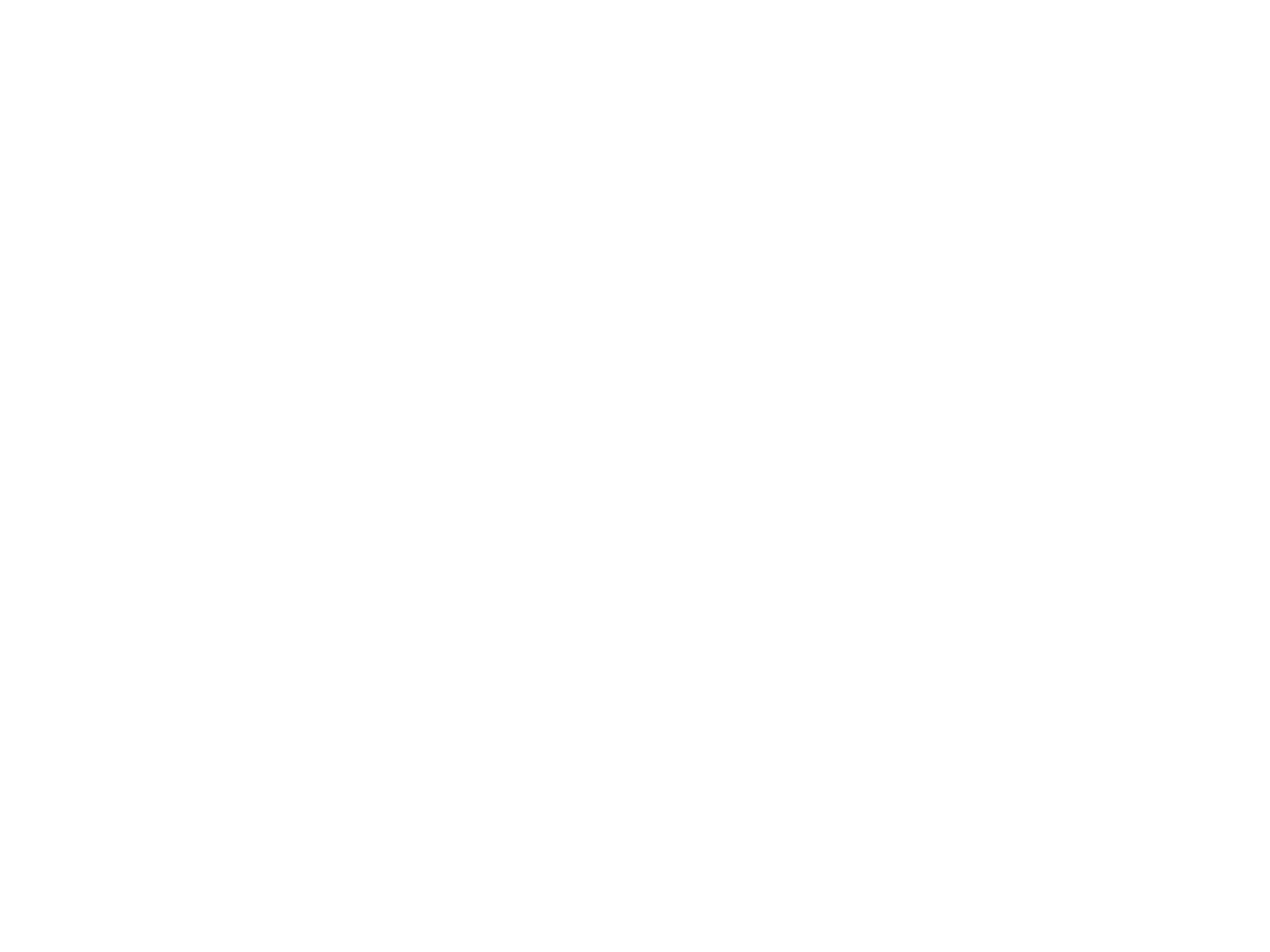
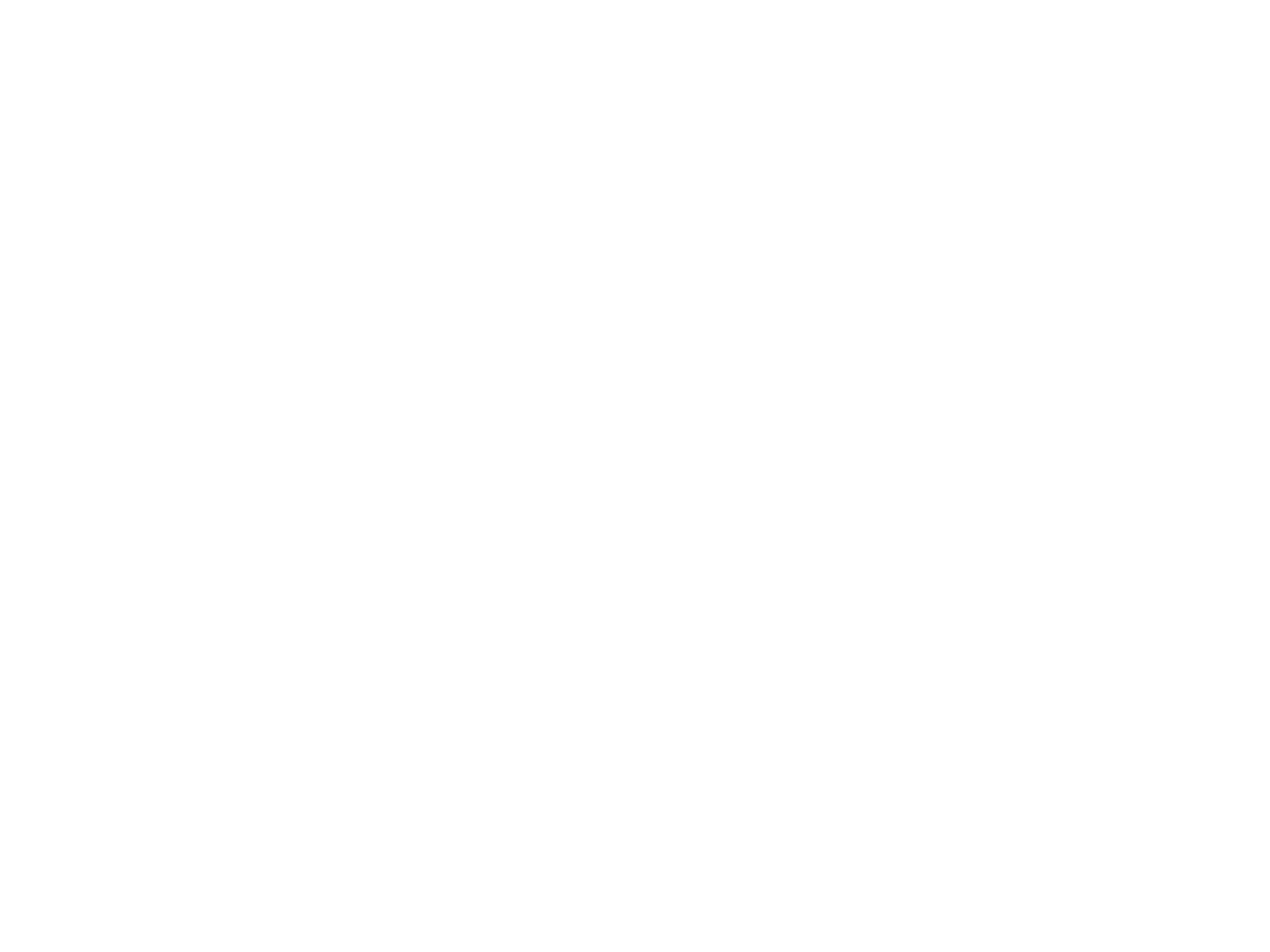
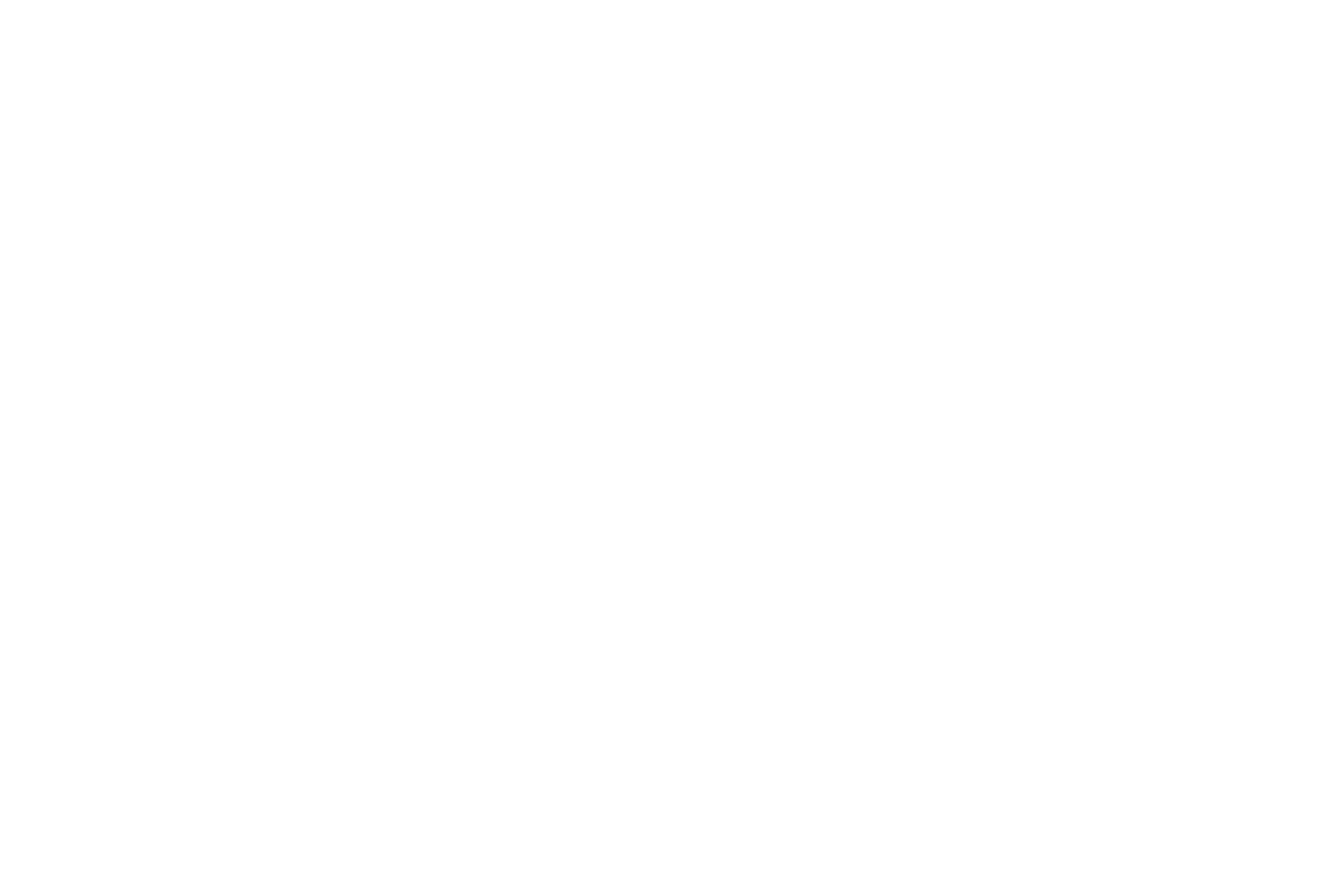
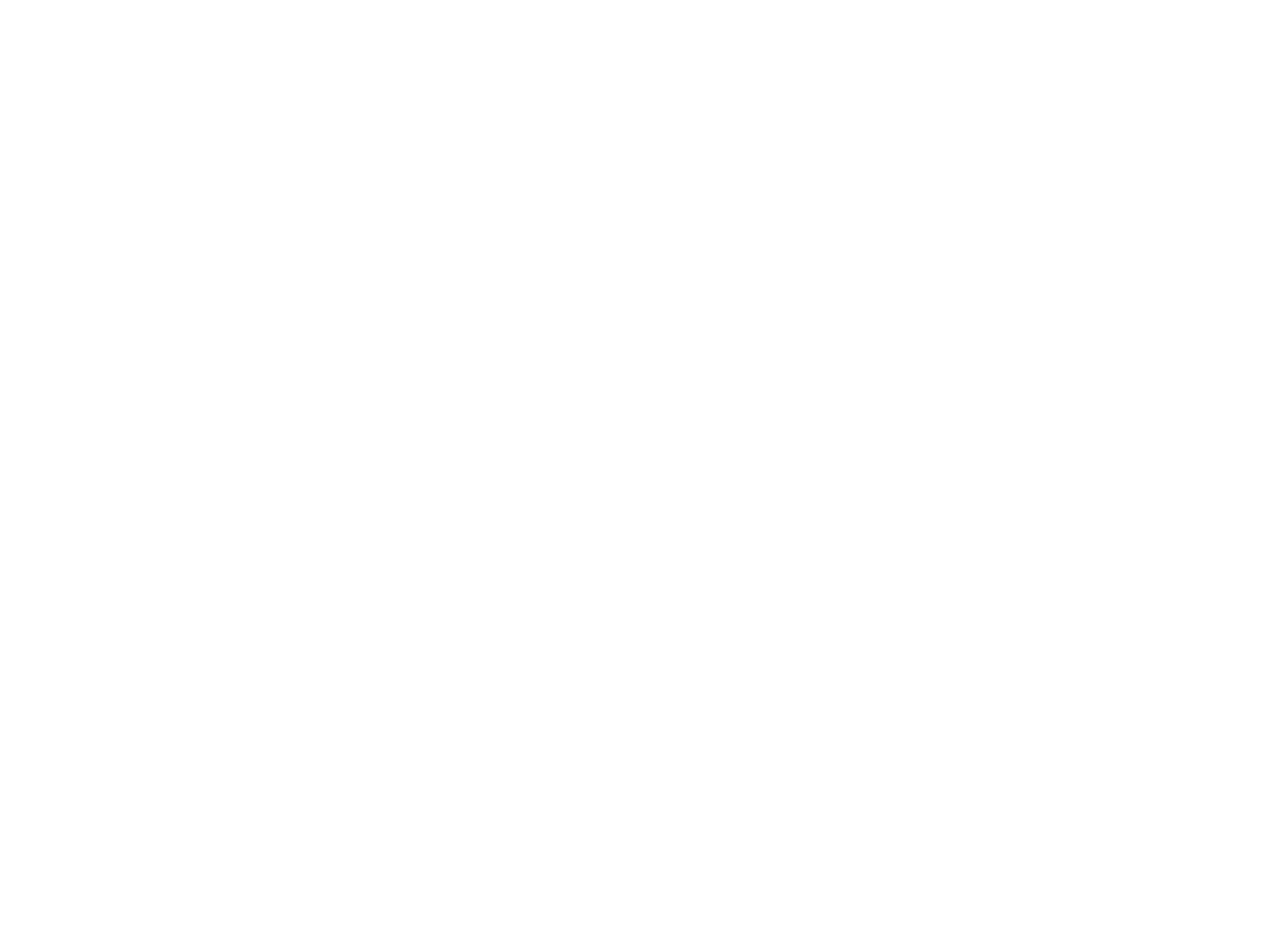
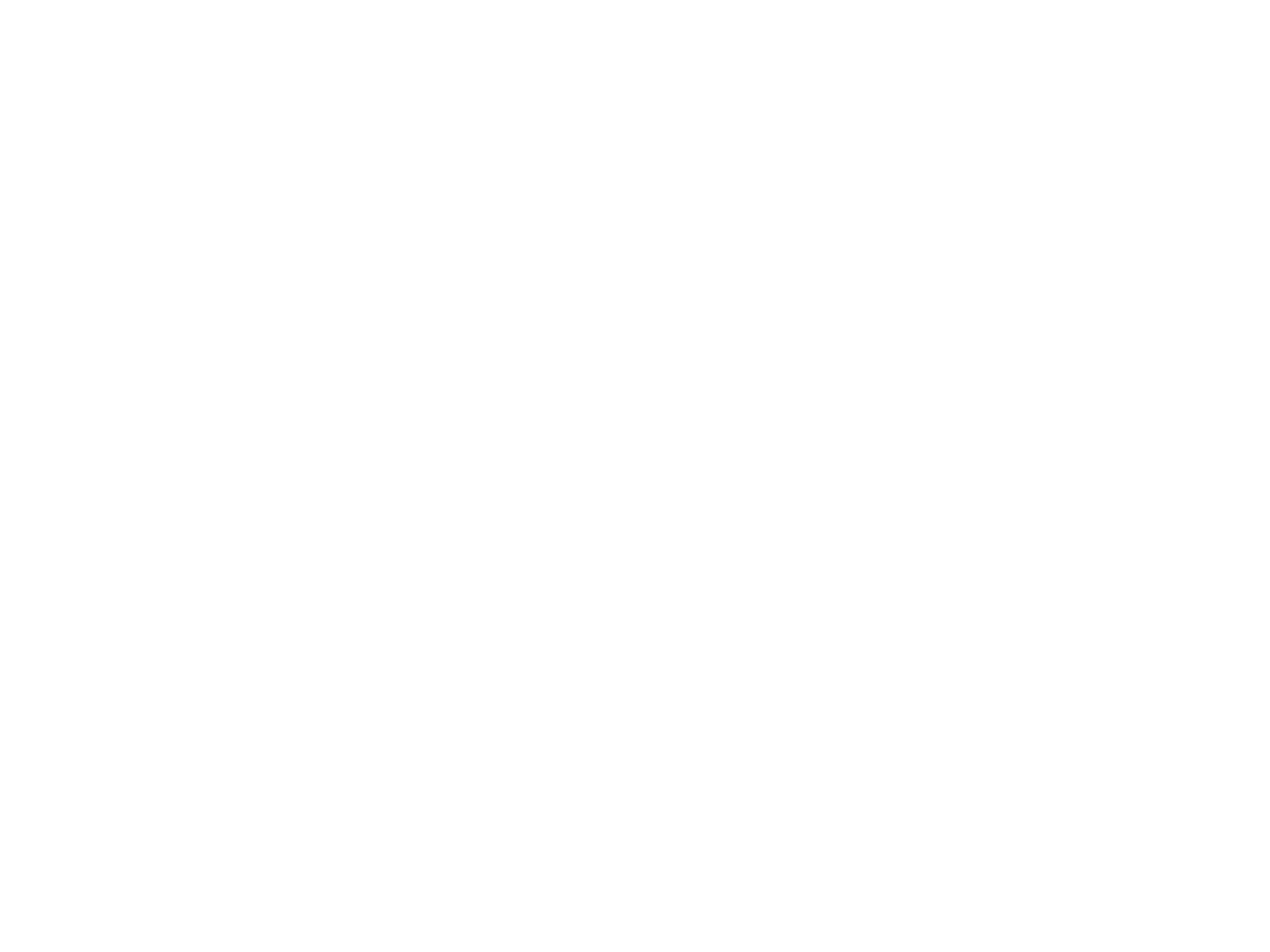
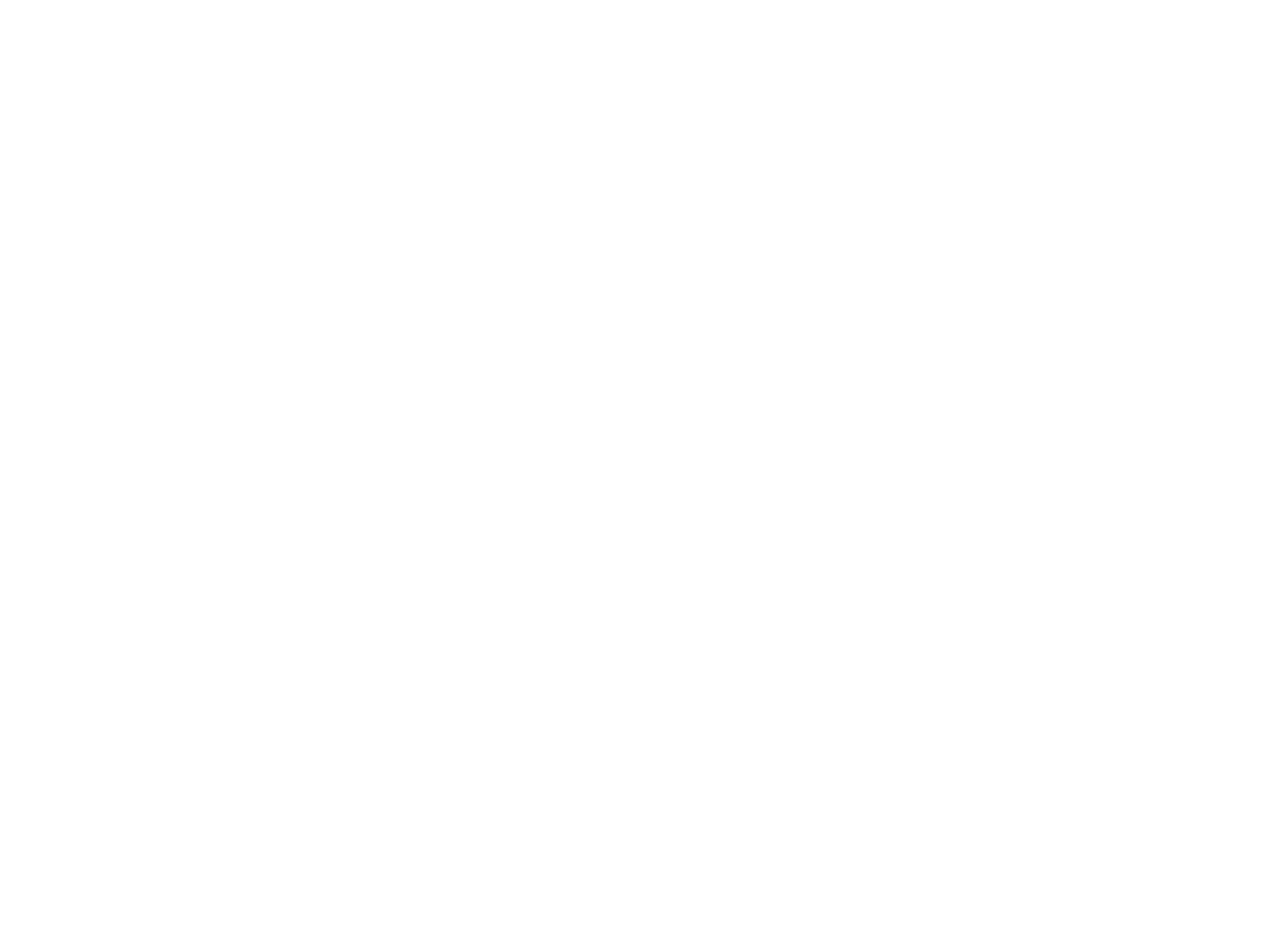
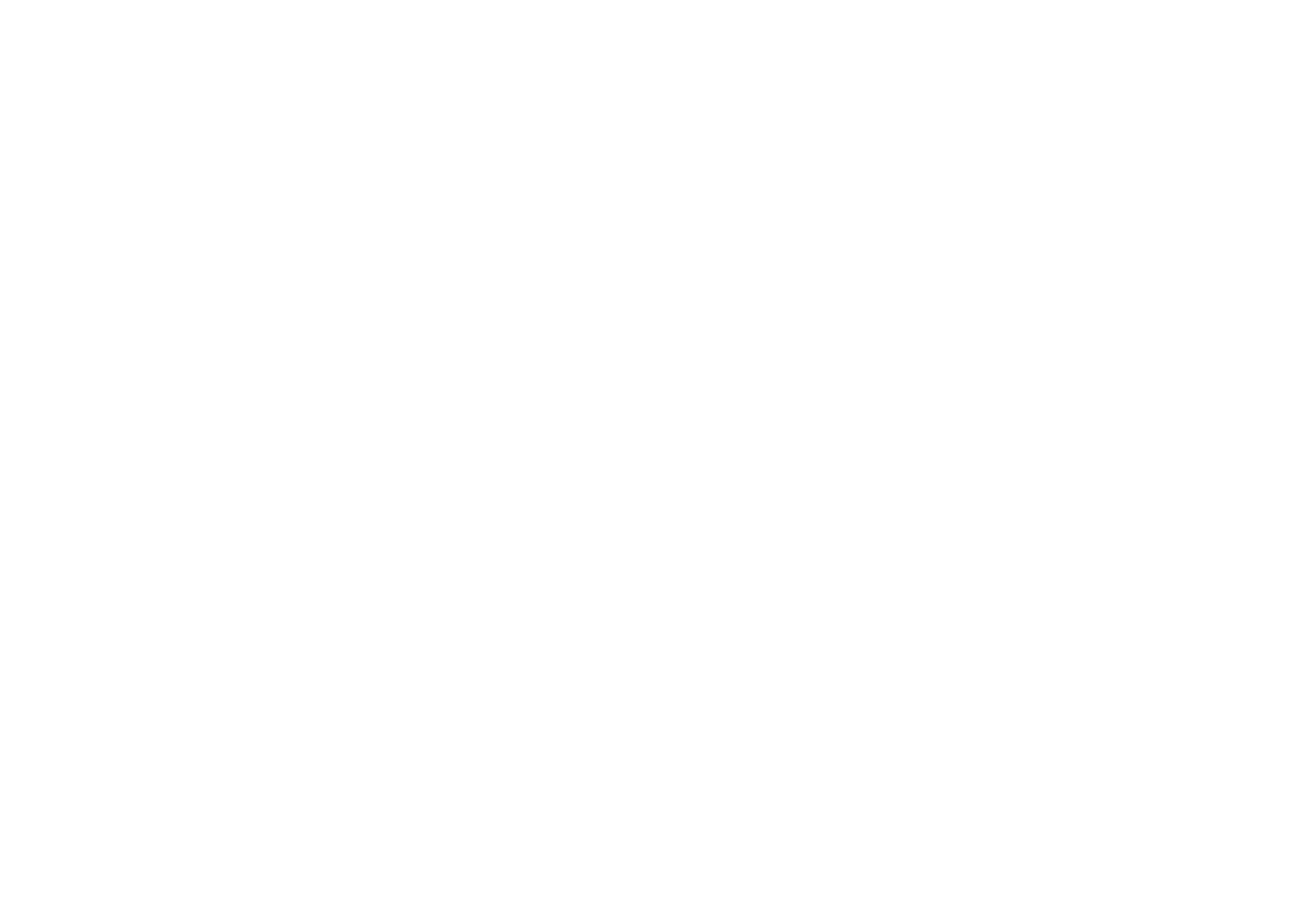

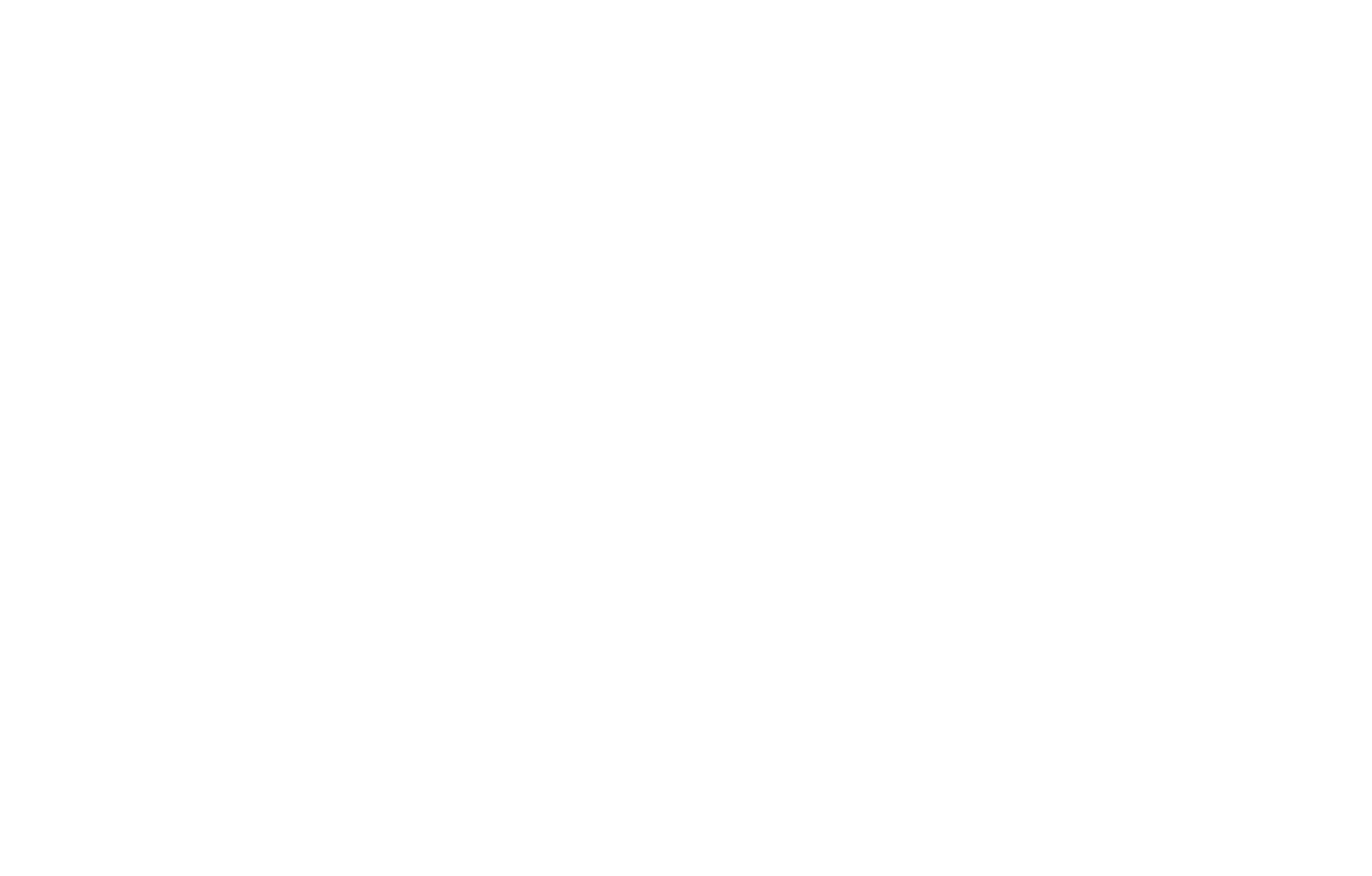

АМПЛИТУДА №1
Проект «Ремонт» стал частью сборника
о современной российской
фотографии АМПЛИТУДА №1.
Издание АМПЛИТУДА №1 вкючено в шорт-лист
премии The Paris Photo–Aperture Foundation PhotoBook Awards 2017, в рамках номинации
First PhotoBook.



Экспонирование. ФотоДепартамент, 2017







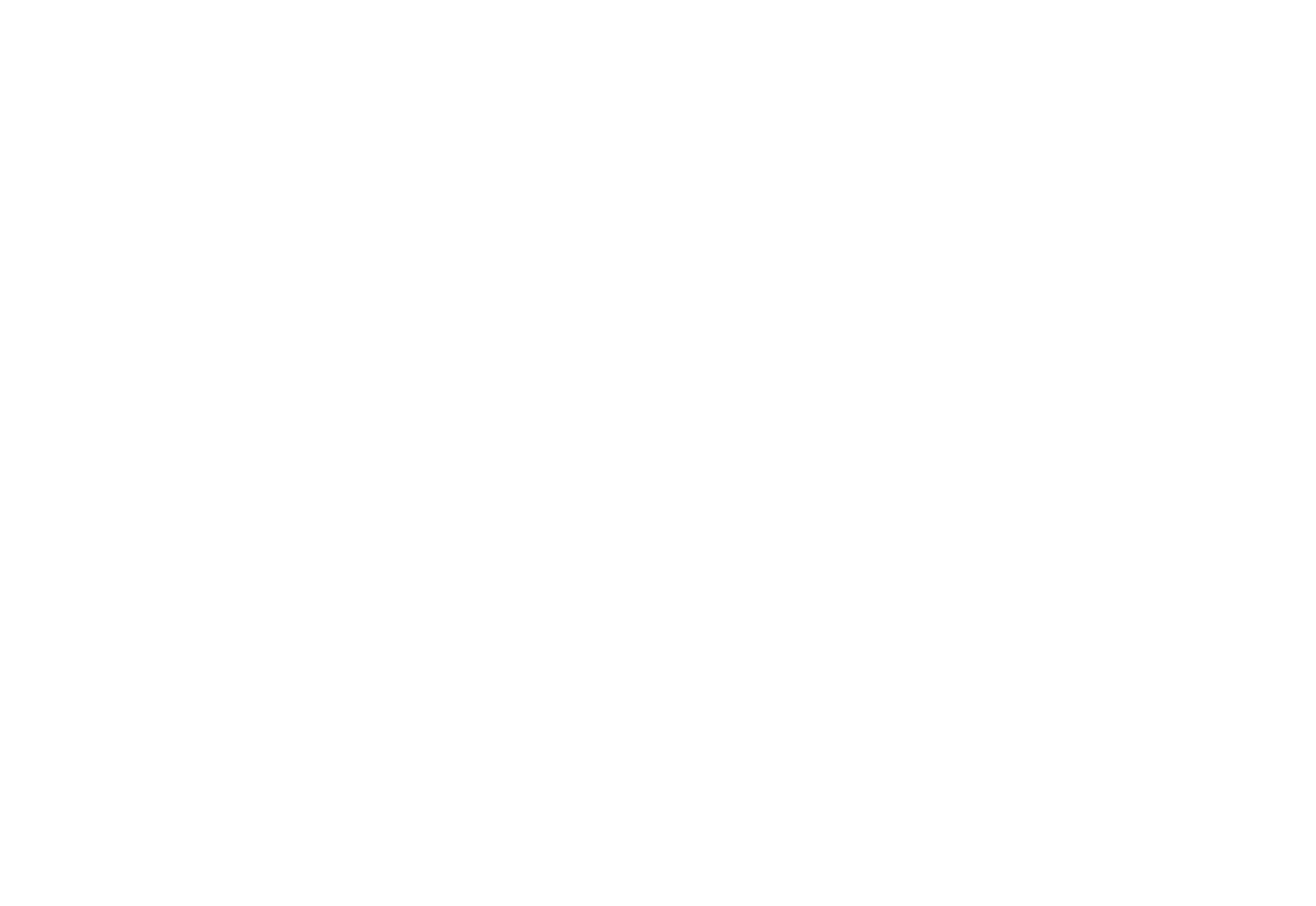
Упаковка
Марина Перчихина.
Упаковка - 1. Перформансы 1997-2001. Запасной Дворец.
Упаковка - 1. Перформансы 1997-2001. Запасной Дворец.
Марина Перчихина
Упаковка
"что есть наше тело?"
предельно простой вопрос предполагающий беспредельное число ответов
С одной из позиций это инструмент желаний, машина, демонстрирующая нашу активность в жизненном пространстве. В иной системе измерений - это объект среди многих других в подвижных и недвижных объектов, с которым возможно манипулировать: одевать, гримировать, менять вокруг него освещение и пространство.
Эта роль тела наиболее очевидна с позиции смерти. Это лучшая возможность одевать раскрашивать. инсталлировать в специальном месте, в сконструированной из дерева ткани и другой фурнитуры упаковке.
упаковка 1-2 поступательная потеря:
движения - речи - осязания - слуха - зрения, наиболее приближенная к состоянию смерти
упаковка 3
следующий шаг: смена ролей живого и неживого (тело и деревянная россыпь паркета)
упаковка 4 Тело - Скульптура - Камень
упаковка 5 Тело превращается в элемент живописной абстракции
упаковка 6 Отсутствующее тело служит формой для элемента инвайромента
Упаковка 1
17 августа 1997 Царское Село, Запасной Дворец,
заброшенная комната цокольного этажа
Материалы: белый скотч, ножницы. Длительность 1 час
В центре комнаты - круг, составленный из сбитой со стен штукатурки. В центре круга обнаженное тело. Тело упаковывает себя белым скотчем с головы до ног. Упакованное тело медленно покидает круг и двигается по лестнице, где завершается «упаковка» лица. Снятие упаковки происходит на лестничной площадке. Снятая «кожа» укладывается в комнате в центре круга.
Упаковка
"что есть наше тело?"
предельно простой вопрос предполагающий беспредельное число ответов
С одной из позиций это инструмент желаний, машина, демонстрирующая нашу активность в жизненном пространстве. В иной системе измерений - это объект среди многих других в подвижных и недвижных объектов, с которым возможно манипулировать: одевать, гримировать, менять вокруг него освещение и пространство.
Эта роль тела наиболее очевидна с позиции смерти. Это лучшая возможность одевать раскрашивать. инсталлировать в специальном месте, в сконструированной из дерева ткани и другой фурнитуры упаковке.
упаковка 1-2 поступательная потеря:
движения - речи - осязания - слуха - зрения, наиболее приближенная к состоянию смерти
упаковка 3
следующий шаг: смена ролей живого и неживого (тело и деревянная россыпь паркета)
упаковка 4 Тело - Скульптура - Камень
упаковка 5 Тело превращается в элемент живописной абстракции
упаковка 6 Отсутствующее тело служит формой для элемента инвайромента
Упаковка 1
17 августа 1997 Царское Село, Запасной Дворец,
заброшенная комната цокольного этажа
Материалы: белый скотч, ножницы. Длительность 1 час
В центре комнаты - круг, составленный из сбитой со стен штукатурки. В центре круга обнаженное тело. Тело упаковывает себя белым скотчем с головы до ног. Упакованное тело медленно покидает круг и двигается по лестнице, где завершается «упаковка» лица. Снятие упаковки происходит на лестничной площадке. Снятая «кожа» укладывается в комнате в центре круга.


Над проектом «Упаковка» я работаю около пяти лет. Материал для проекта я собирала во время работы фотографом в агентстве недвижимости – снимала интерьеры квартир Москвы и Московской области. Их стилистическое разнообразие заставило ее задаться вопросами: как люди формируют свои личные пространства? что влияет на выбор цветов, фактур и материалов, которыми они себя окружают? может ли интерьер восприниматься как «высказывание» определенной социальной группы?
Коммерческое VS. Художественное
Жизнь VS. Искусство
Жизнь VS. Искусство
Контакт со зрителем
Меня интересует интерьер квартиры как отражение ментальных конструкций и представлений человека, пересечений исторических периодов и событий современности. Огромный архив фотографий интерьеров – я снимала почти по 15000 изображений в год – стал основой масштабной инсталляции. В ней снимки дополняются типологизированными материалами: фактура мебели, обои, плитка, отделочные материалы, элементы декора, картины и постеры в интерьерах. Материальность пространств содержат в себе срез исторических и аффективных смыслов, ценностных структур общества. Так имплицитные свойства пространства содержатся в изображении интерьера и, в обнаруженной многослойности, соединяются в серию тотальных инсталляций.
Как пространство становится временем?


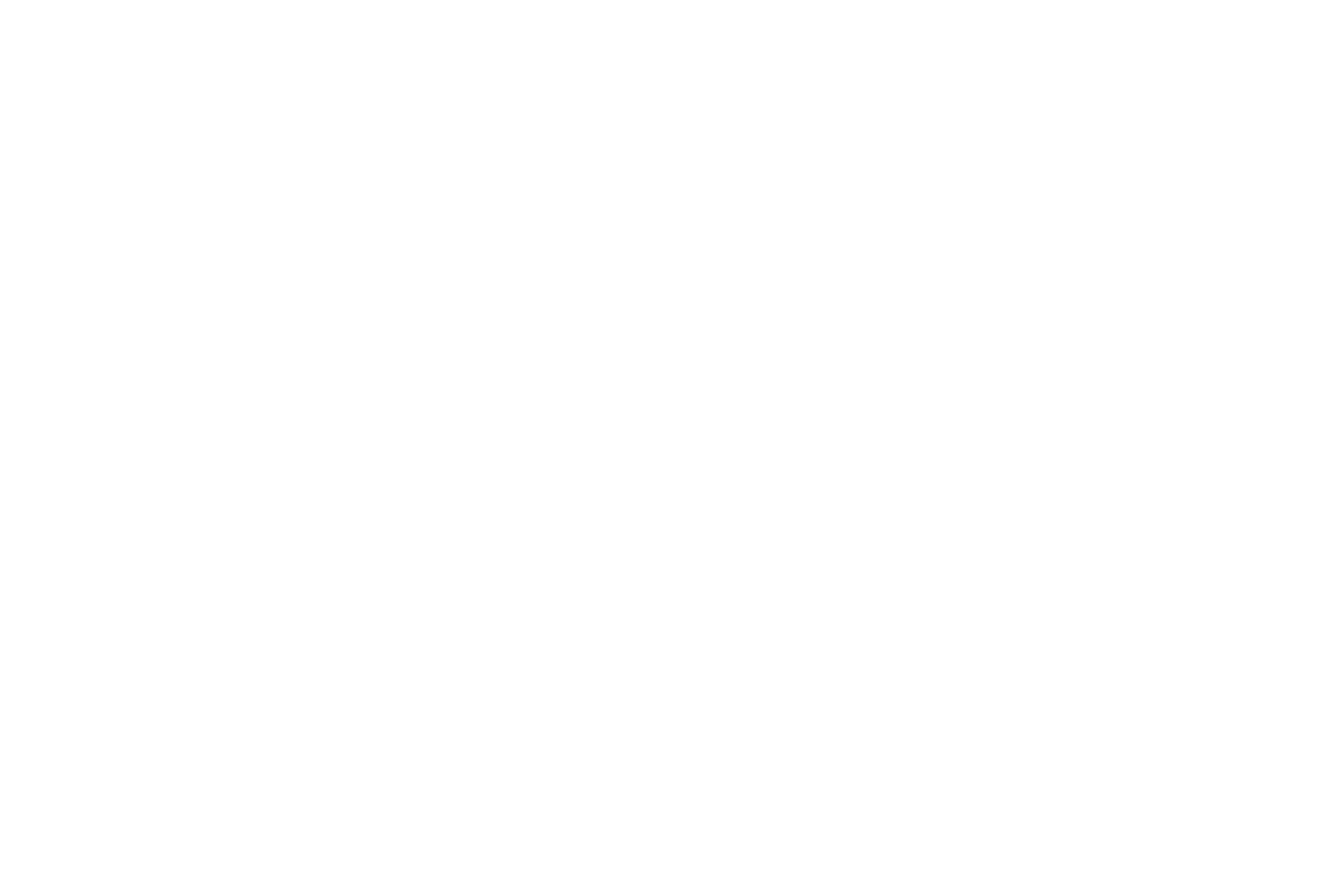
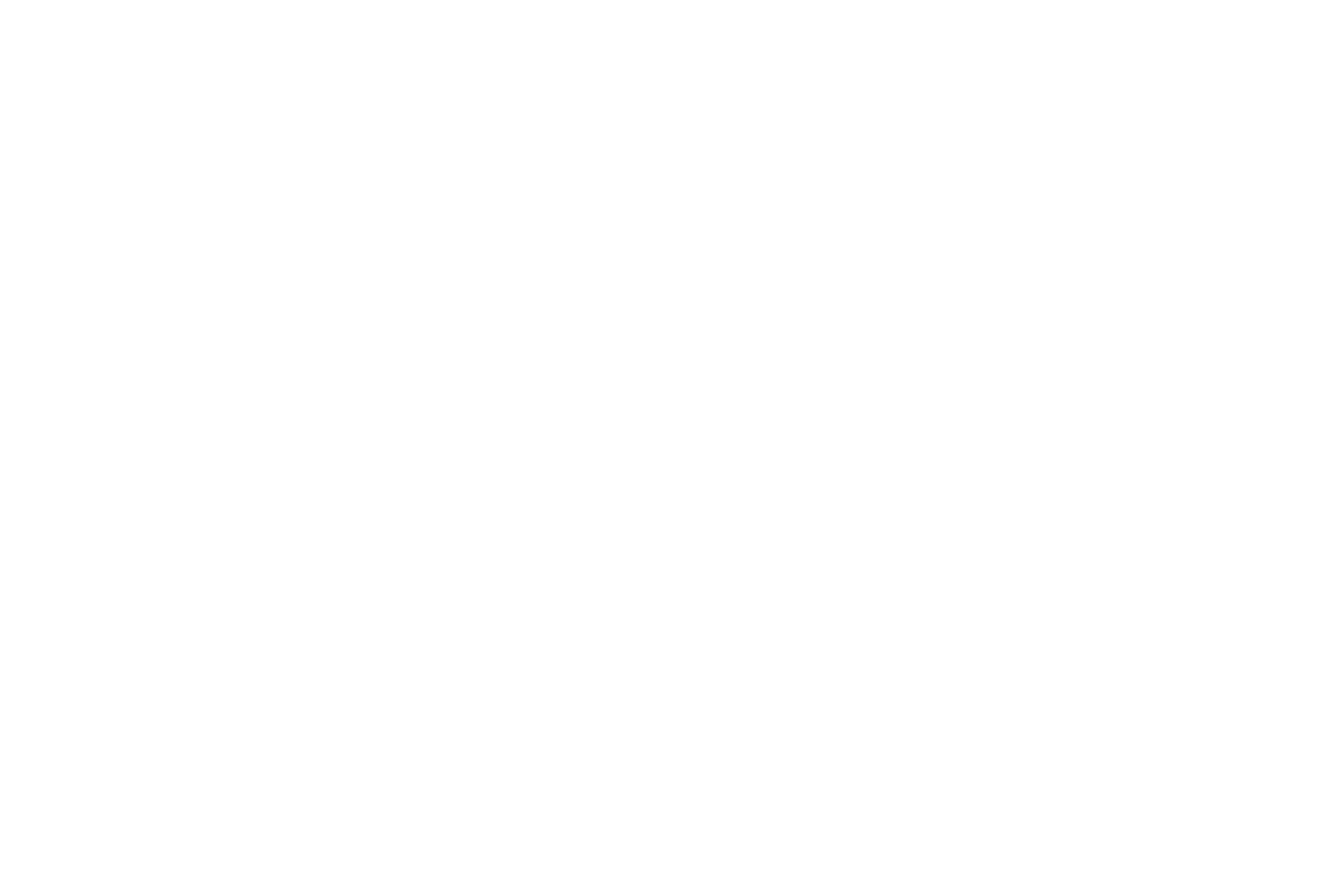

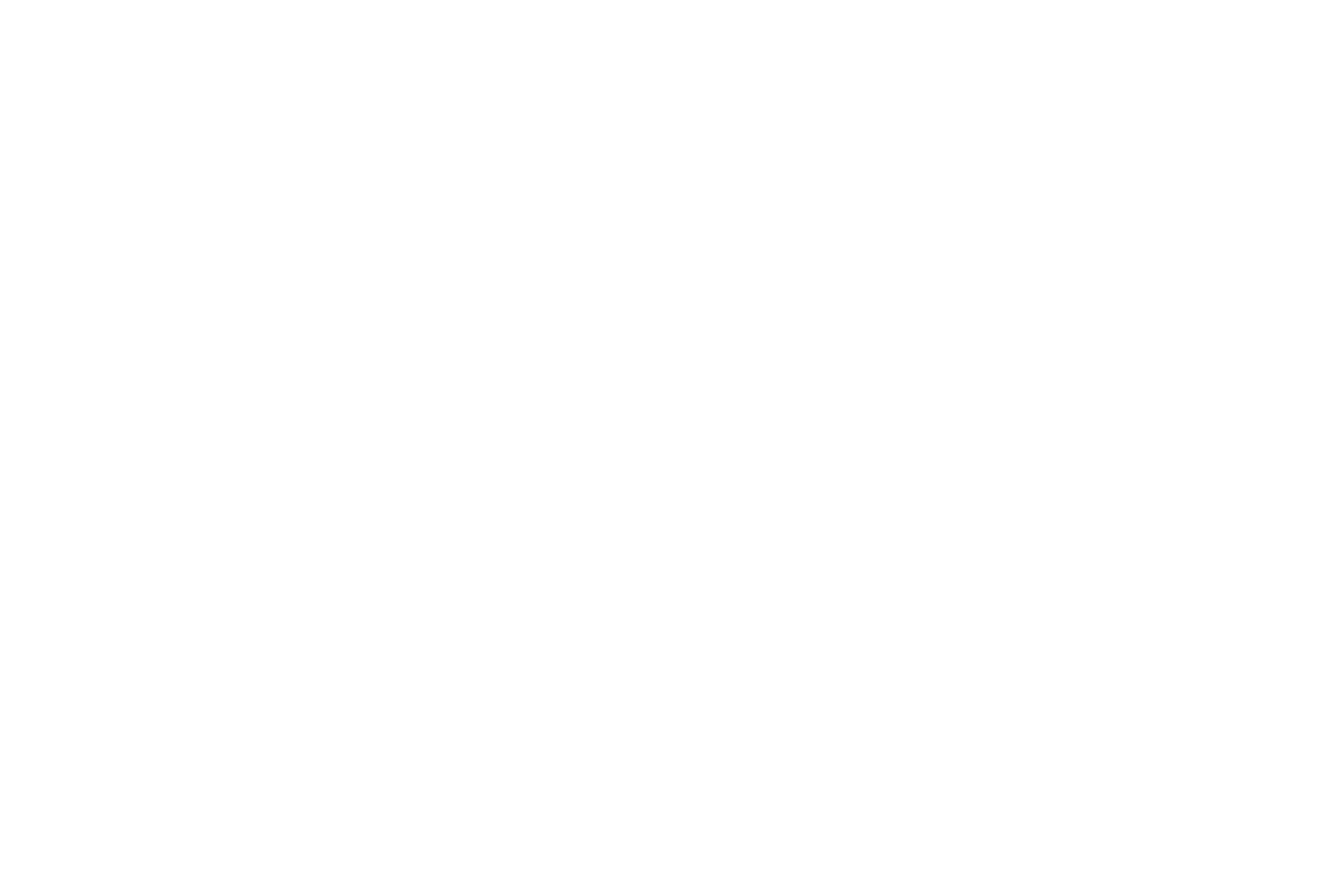


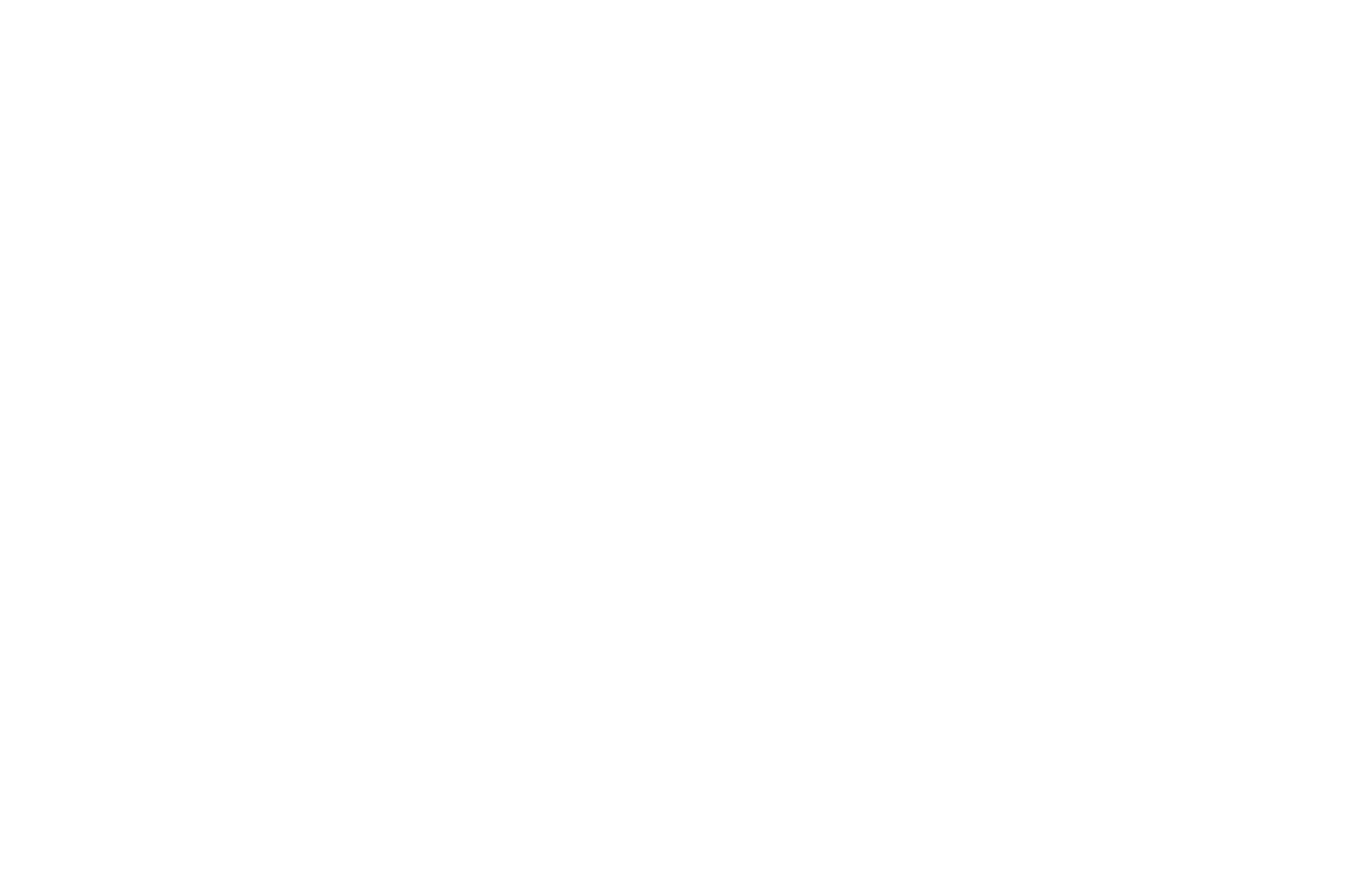





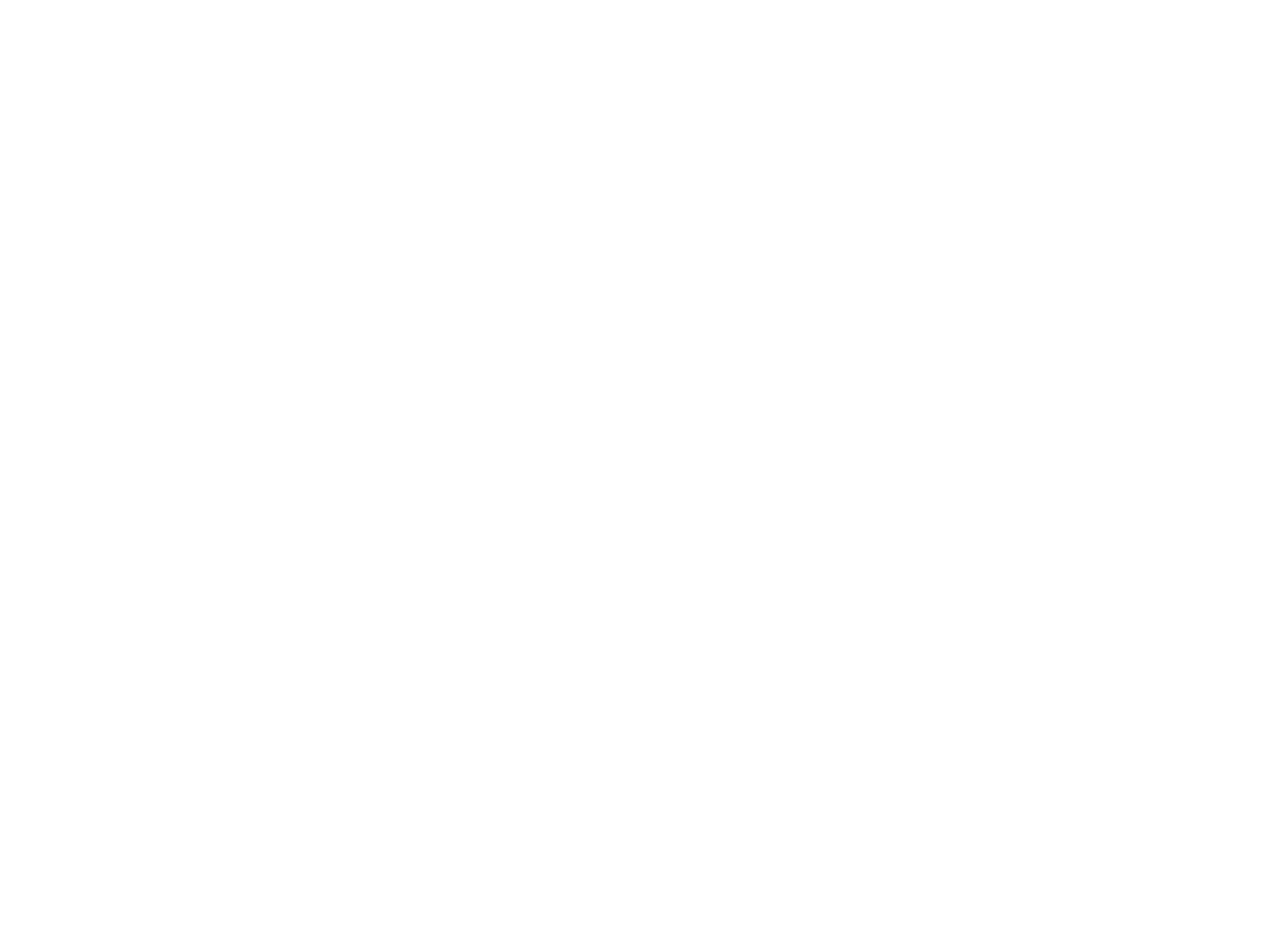
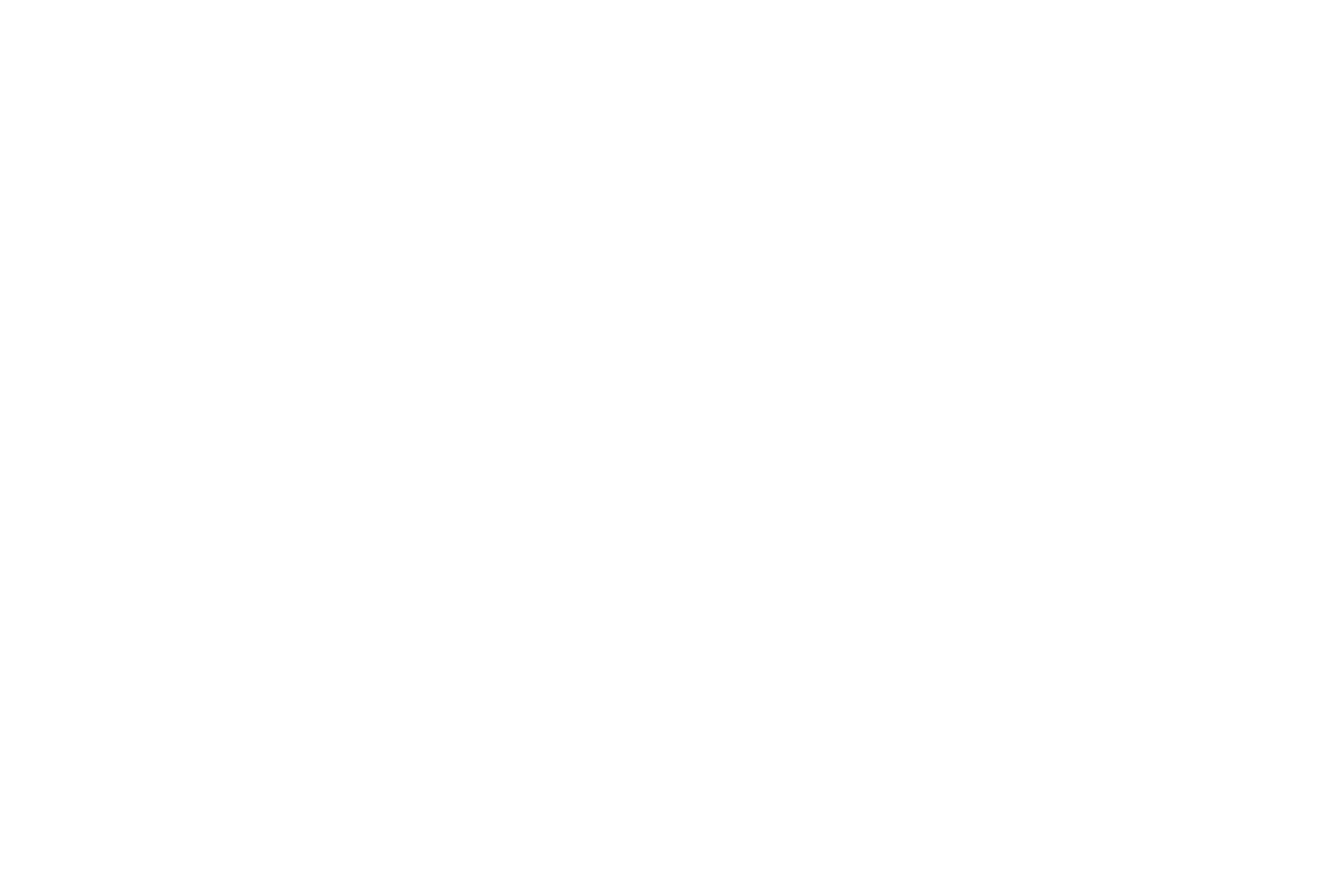
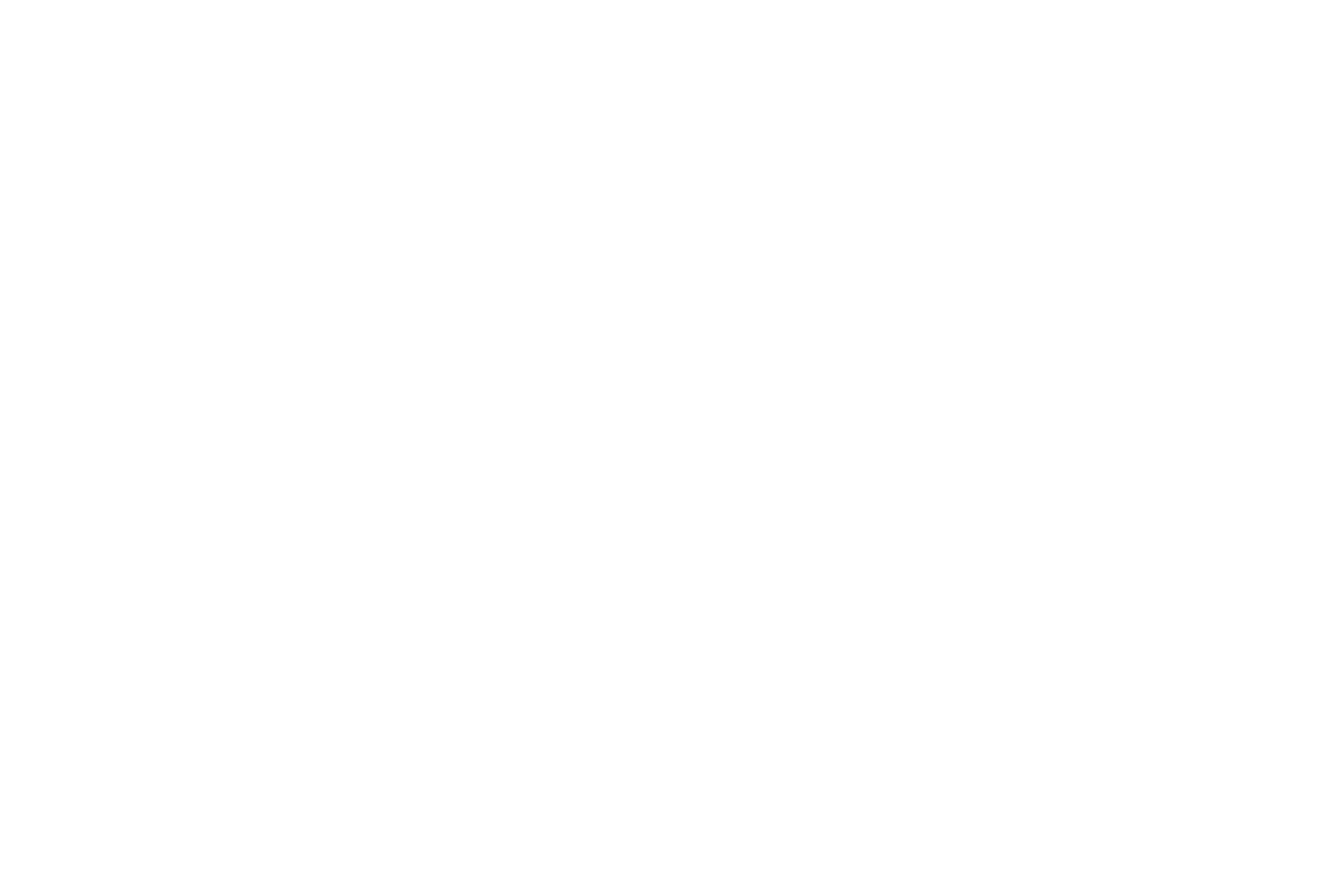
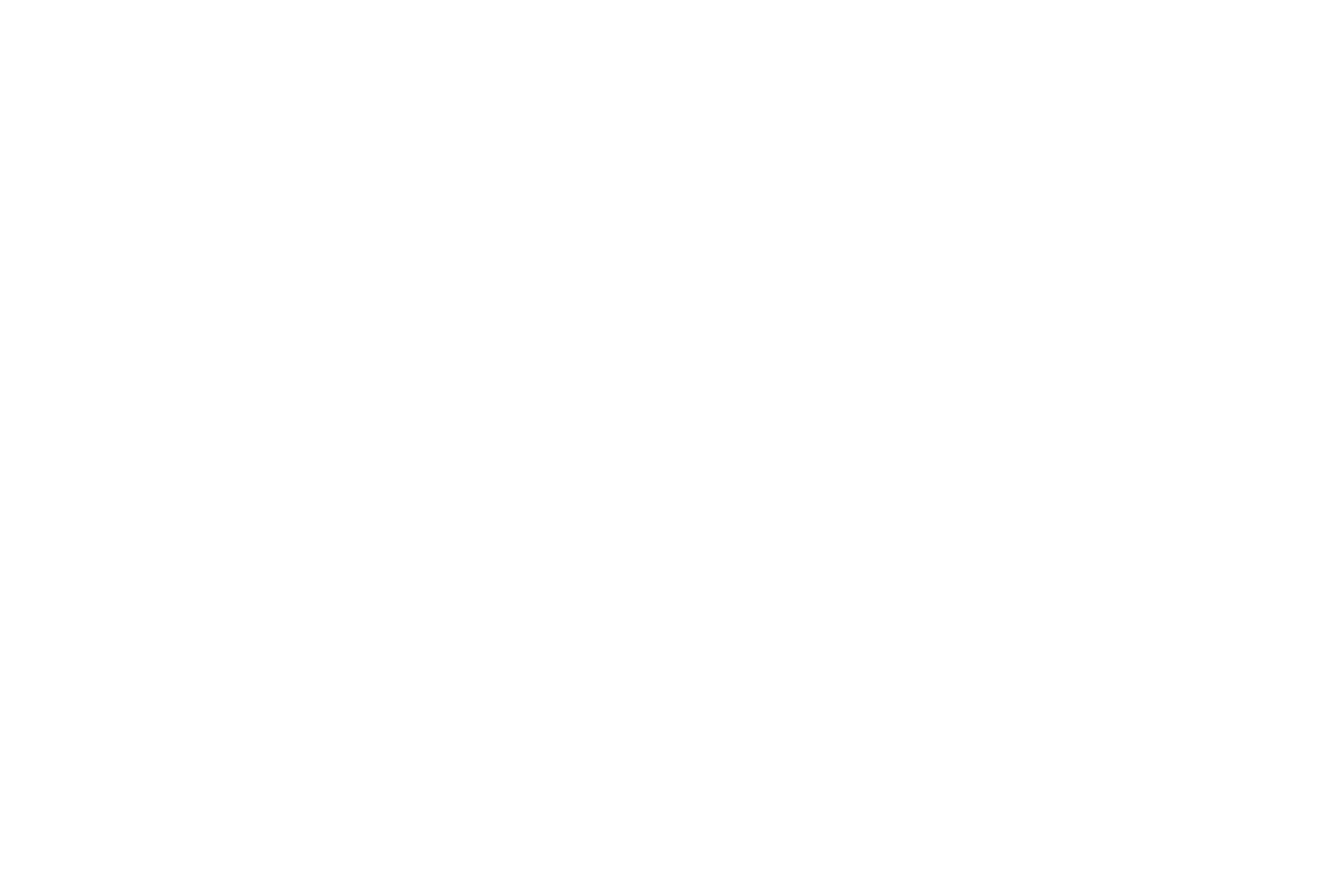
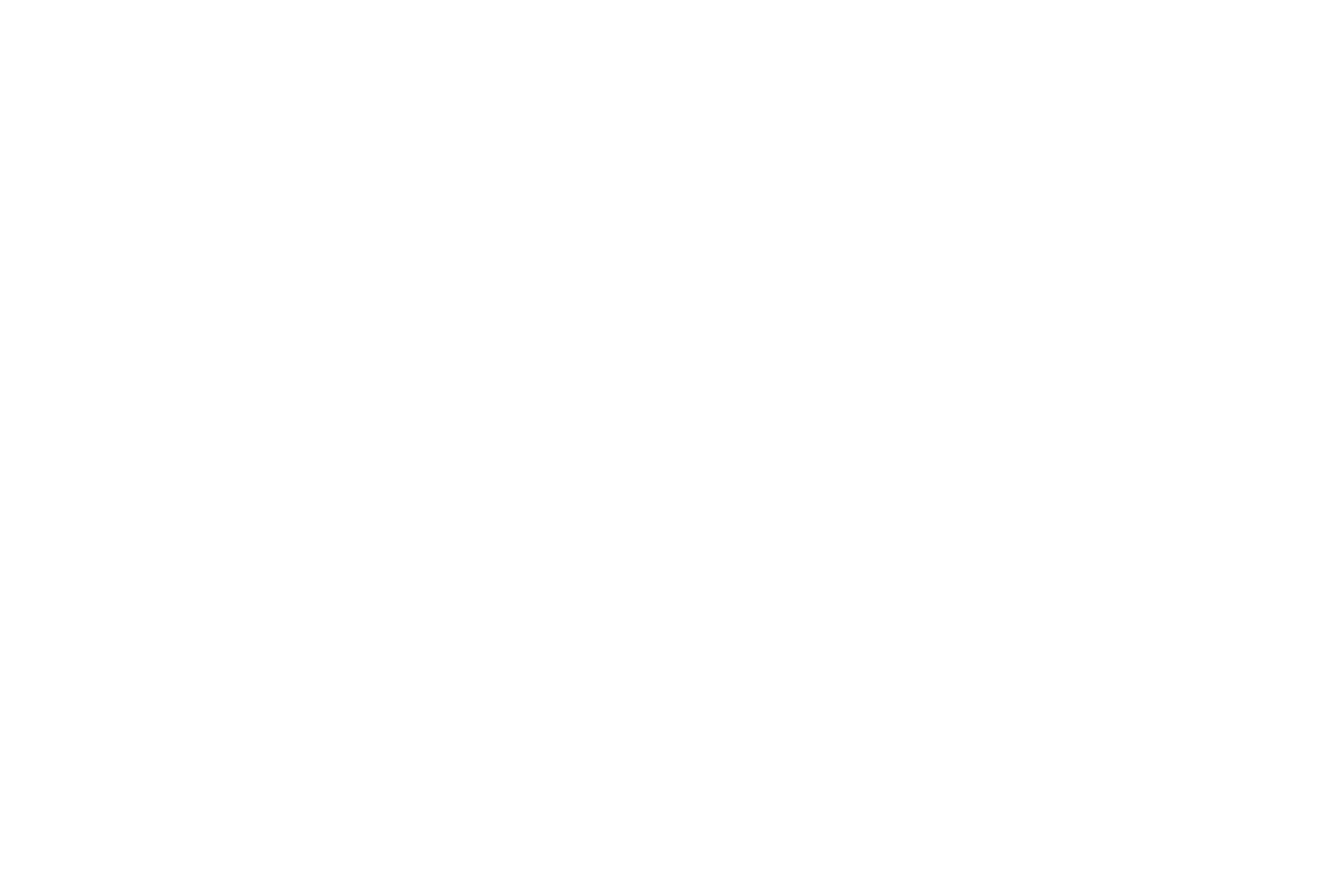
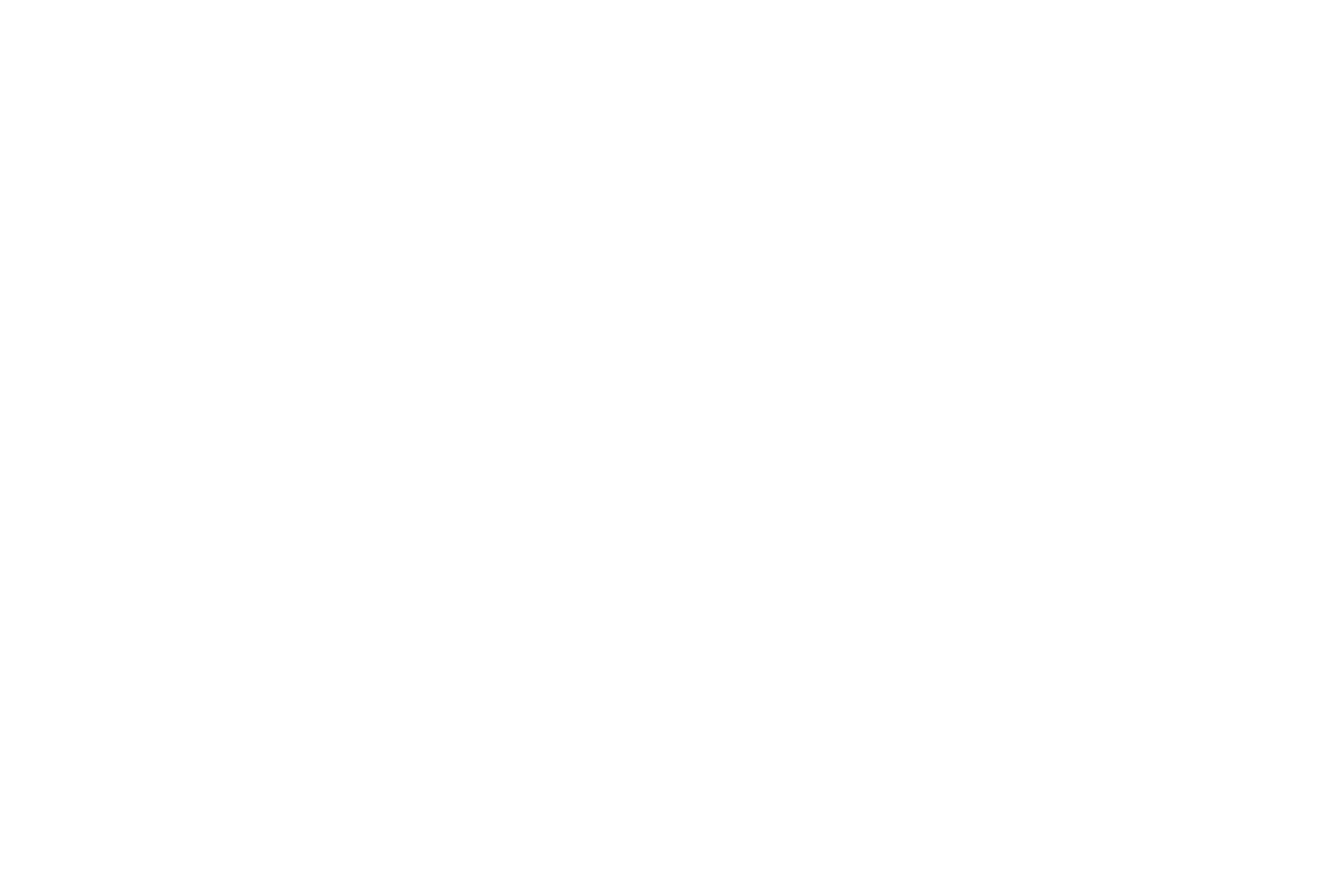
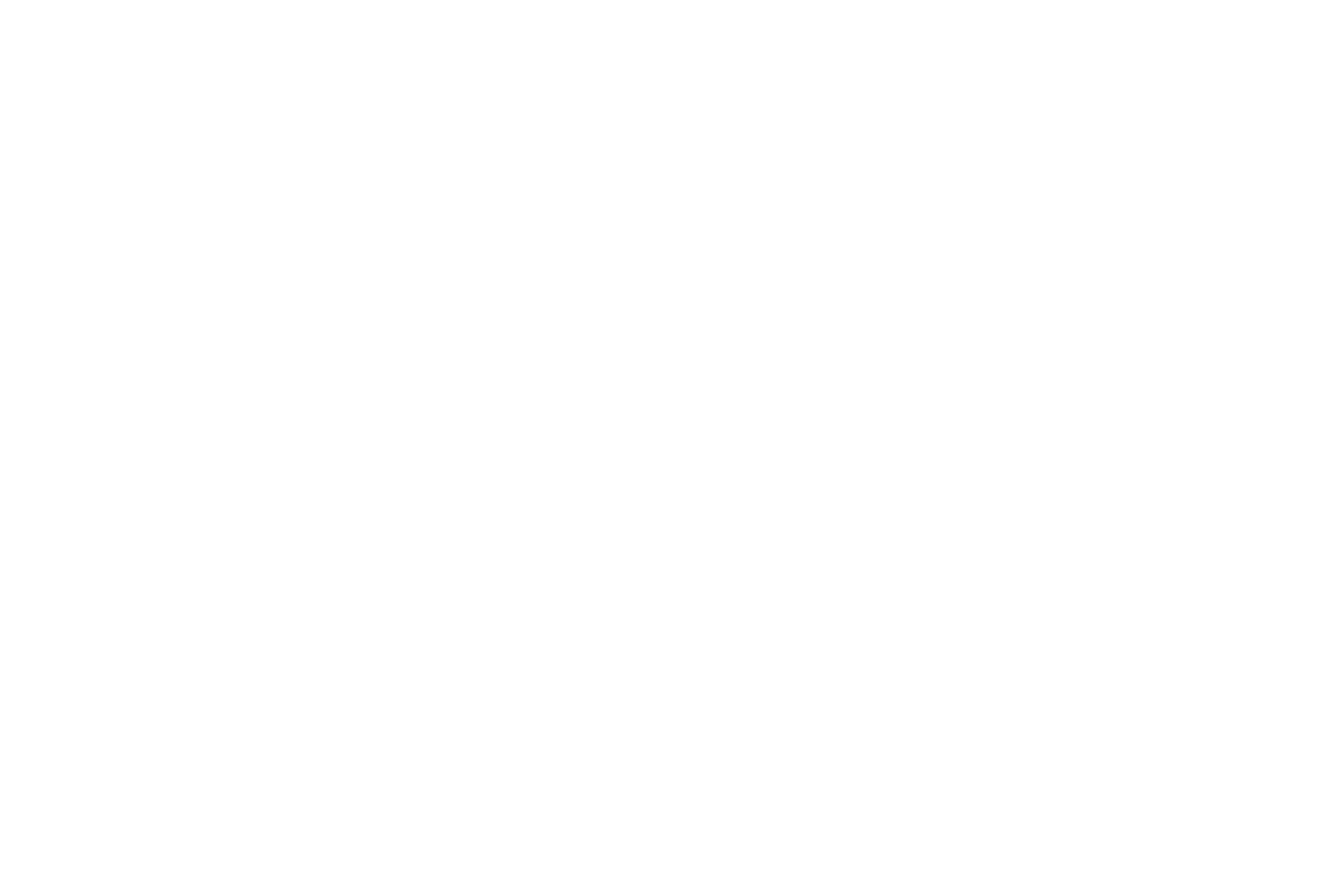
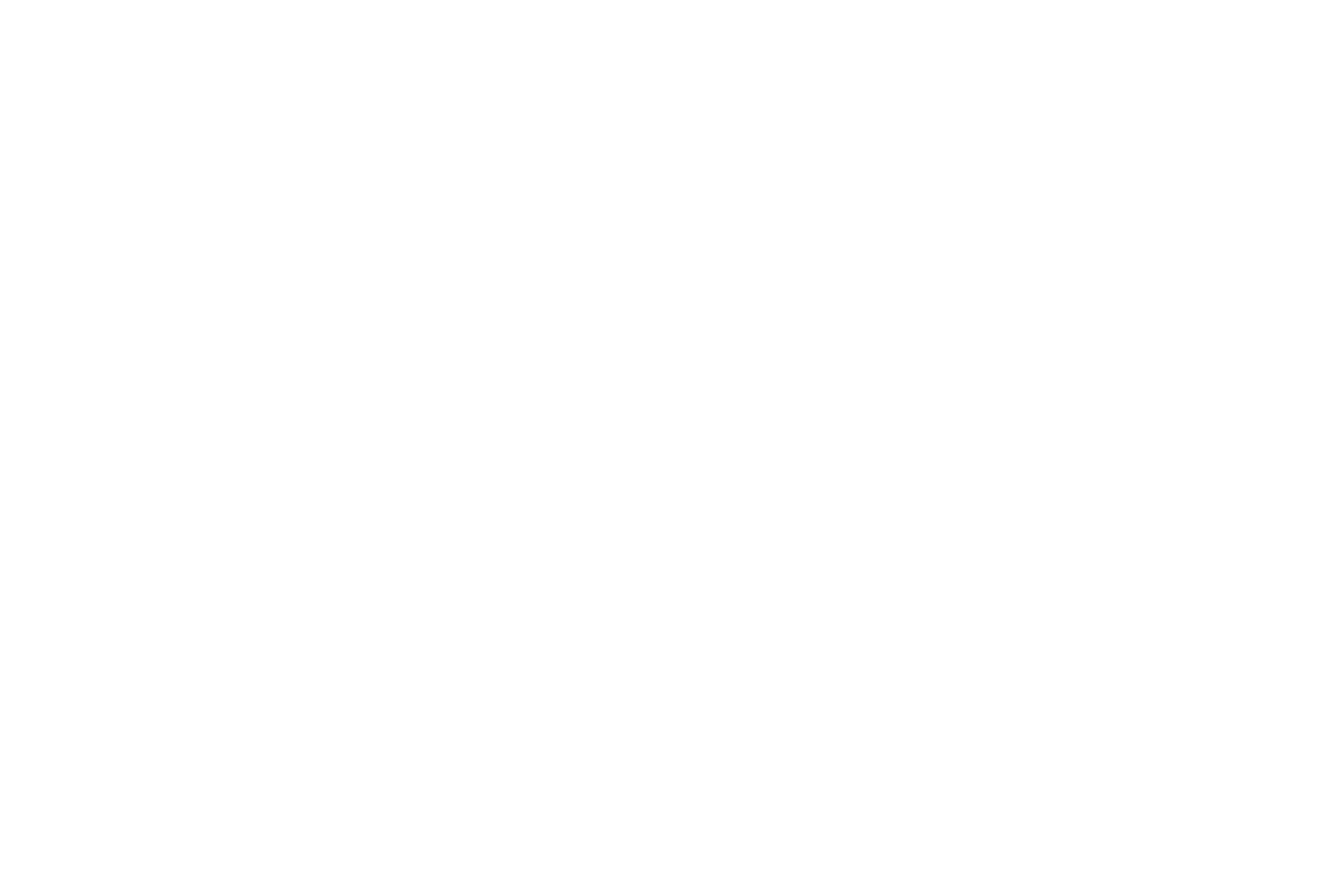
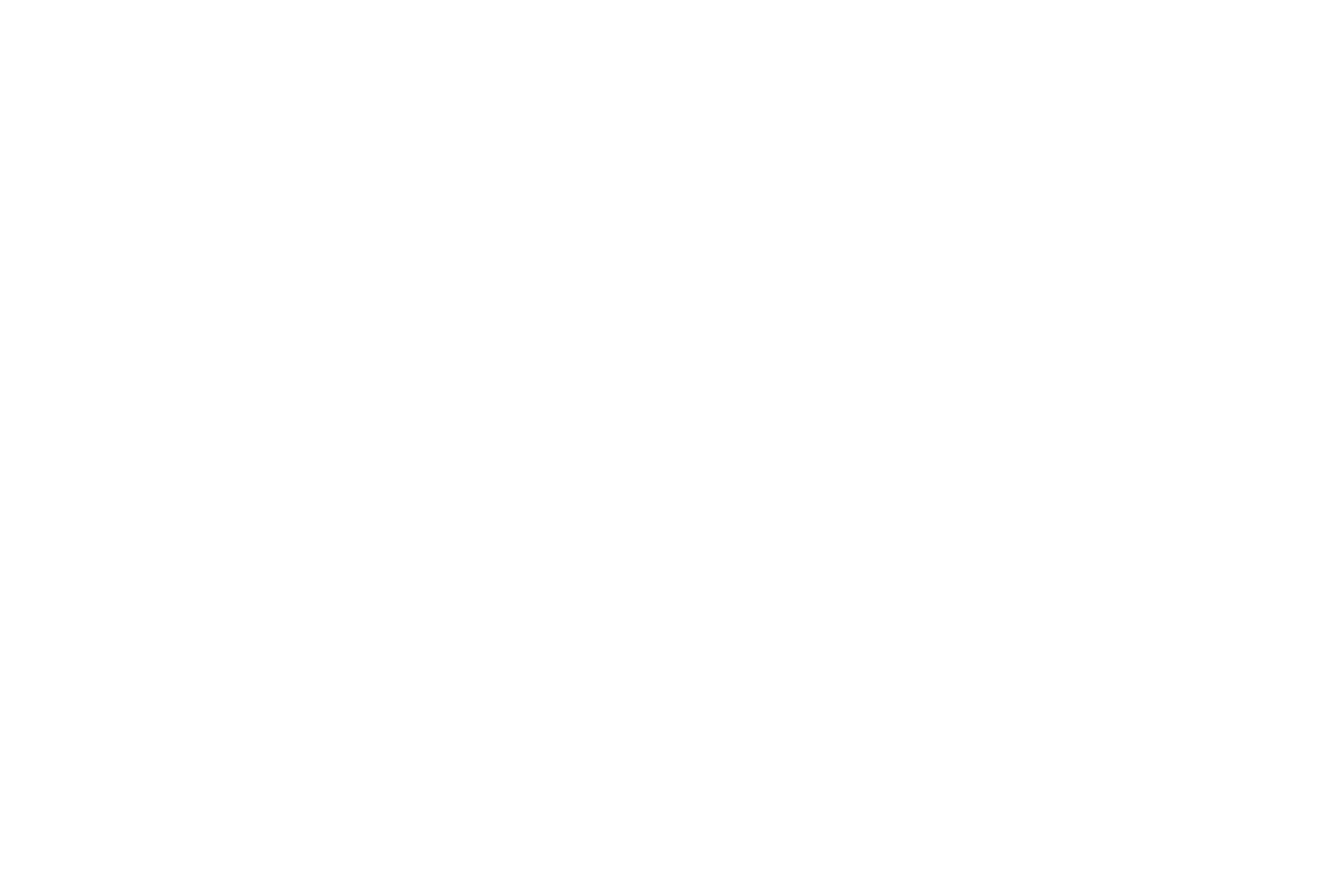
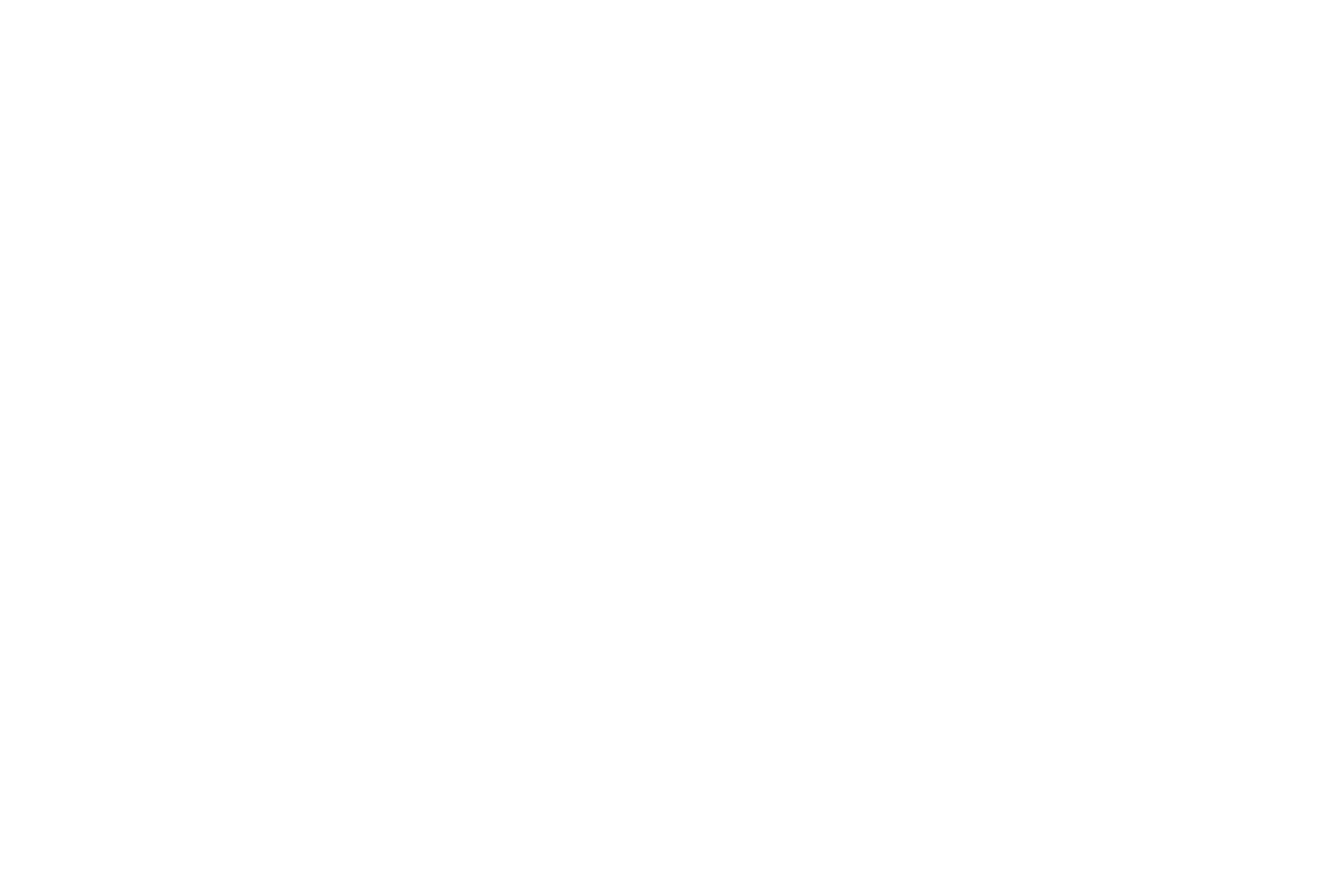
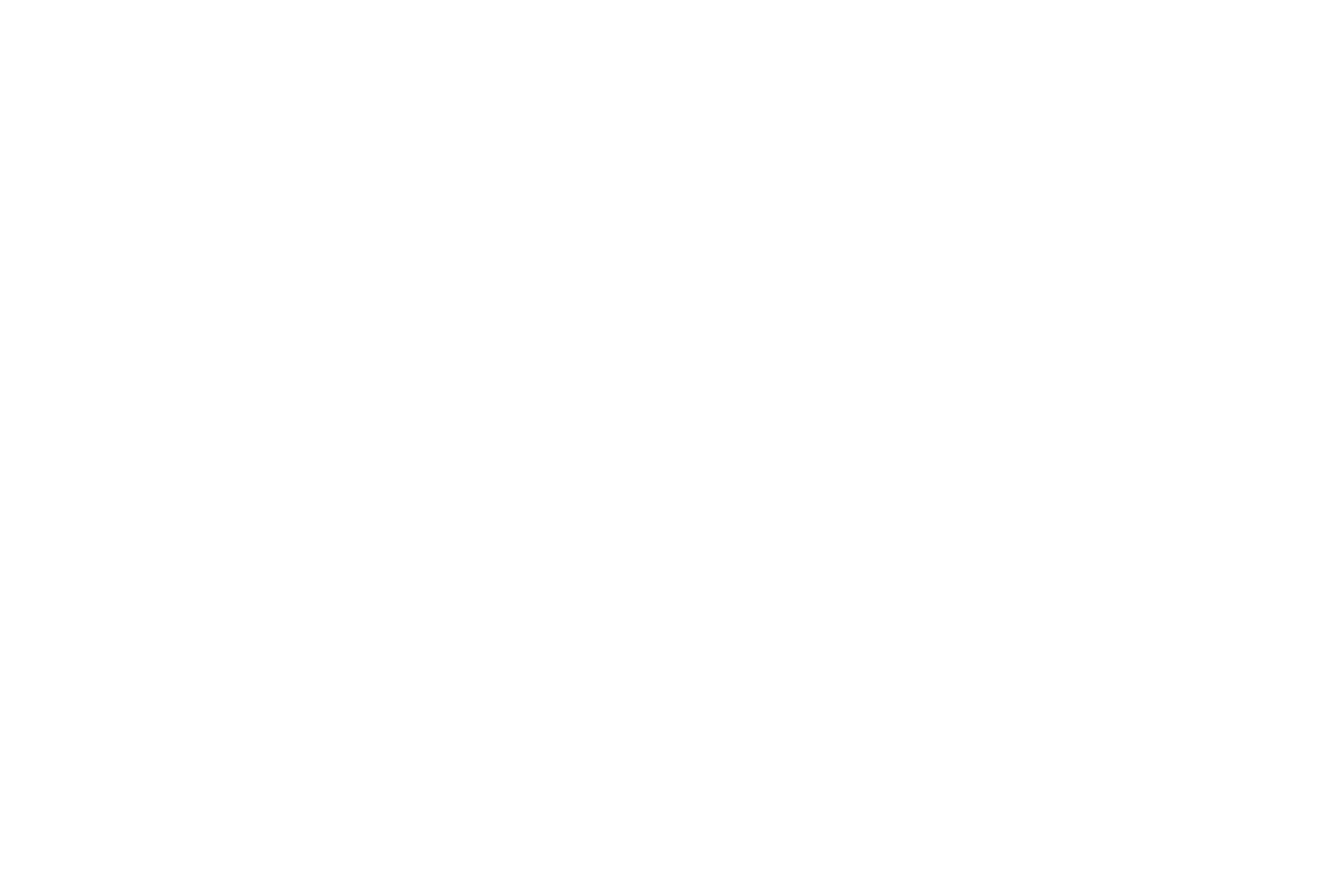
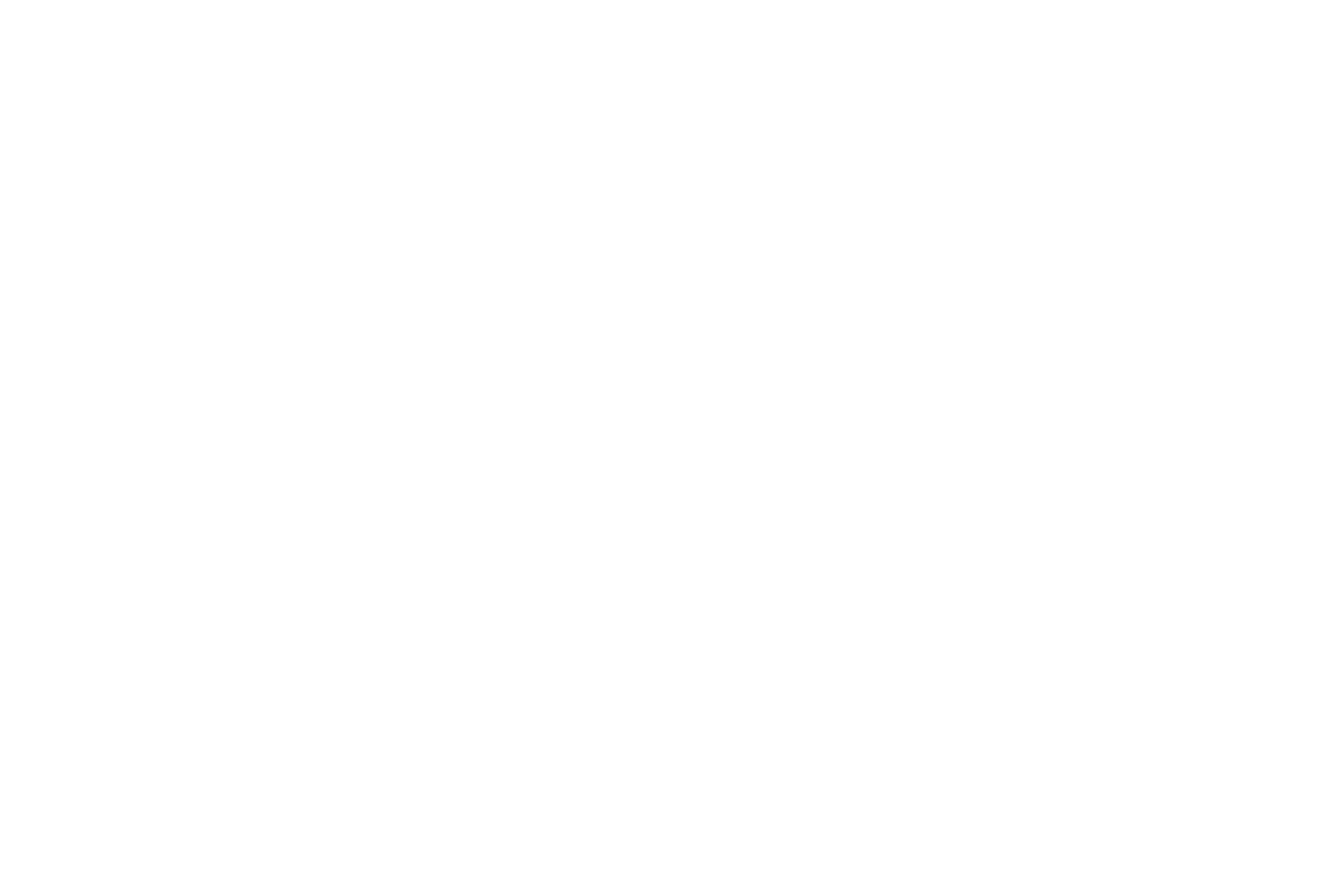
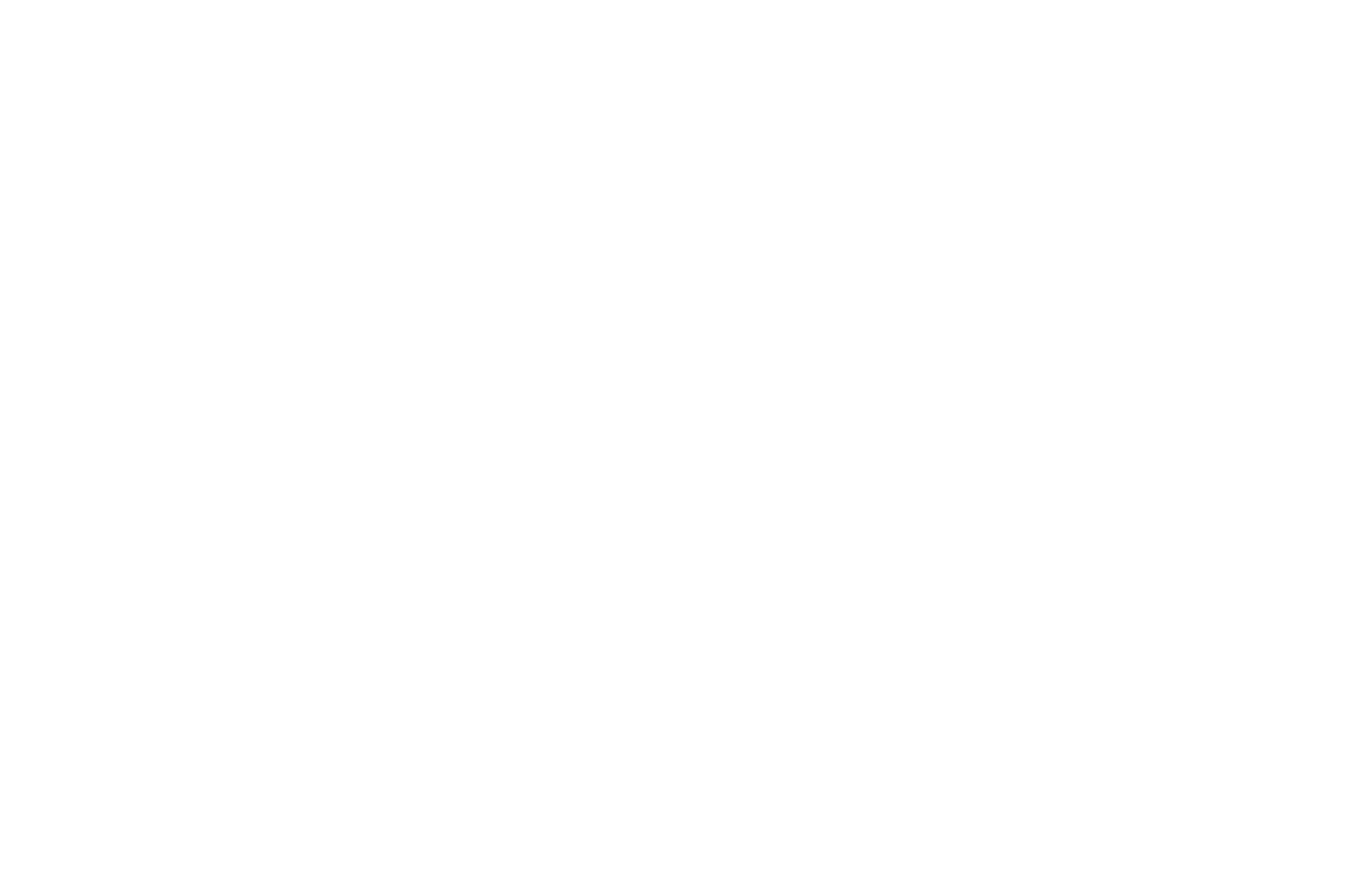


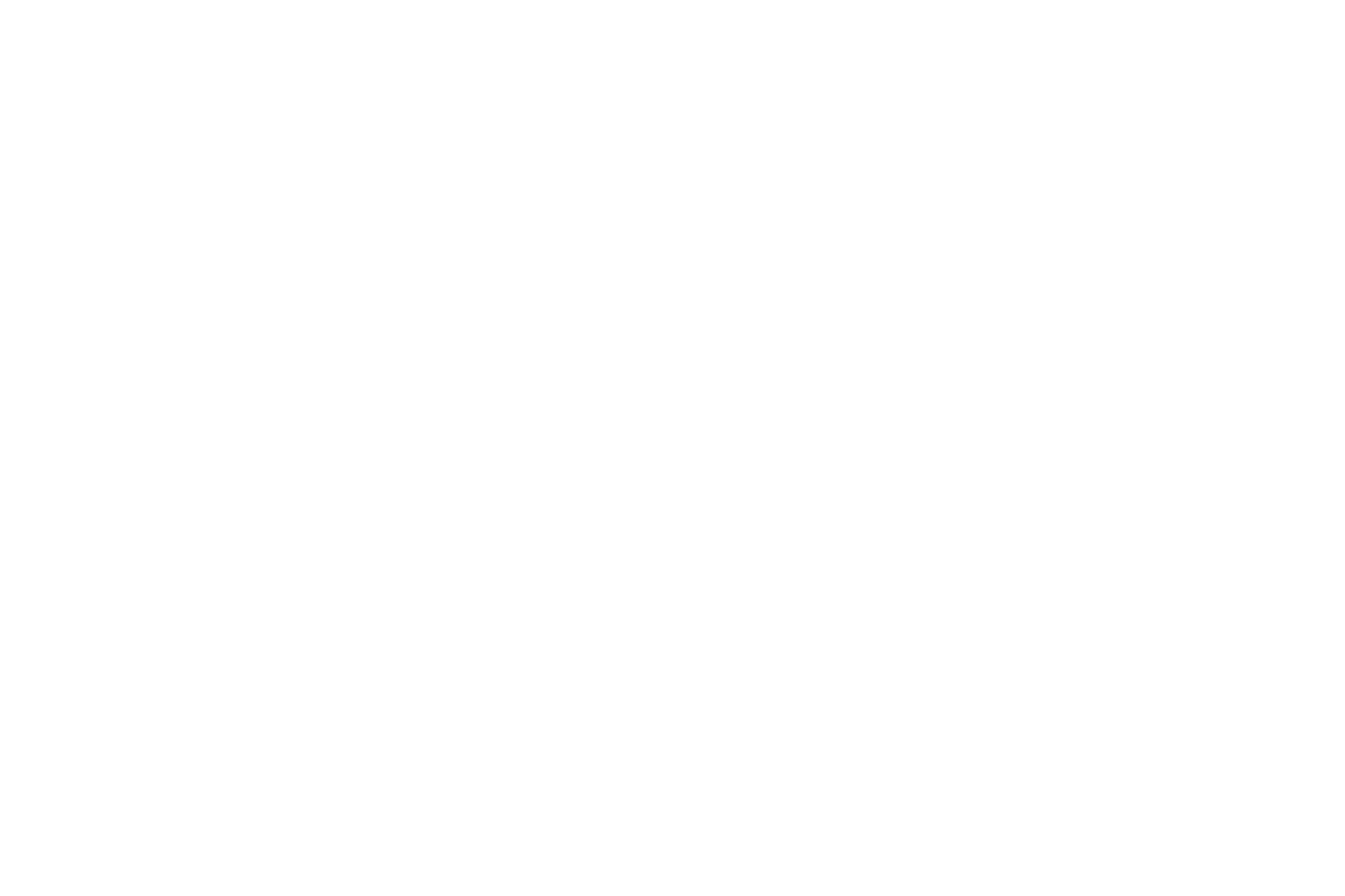
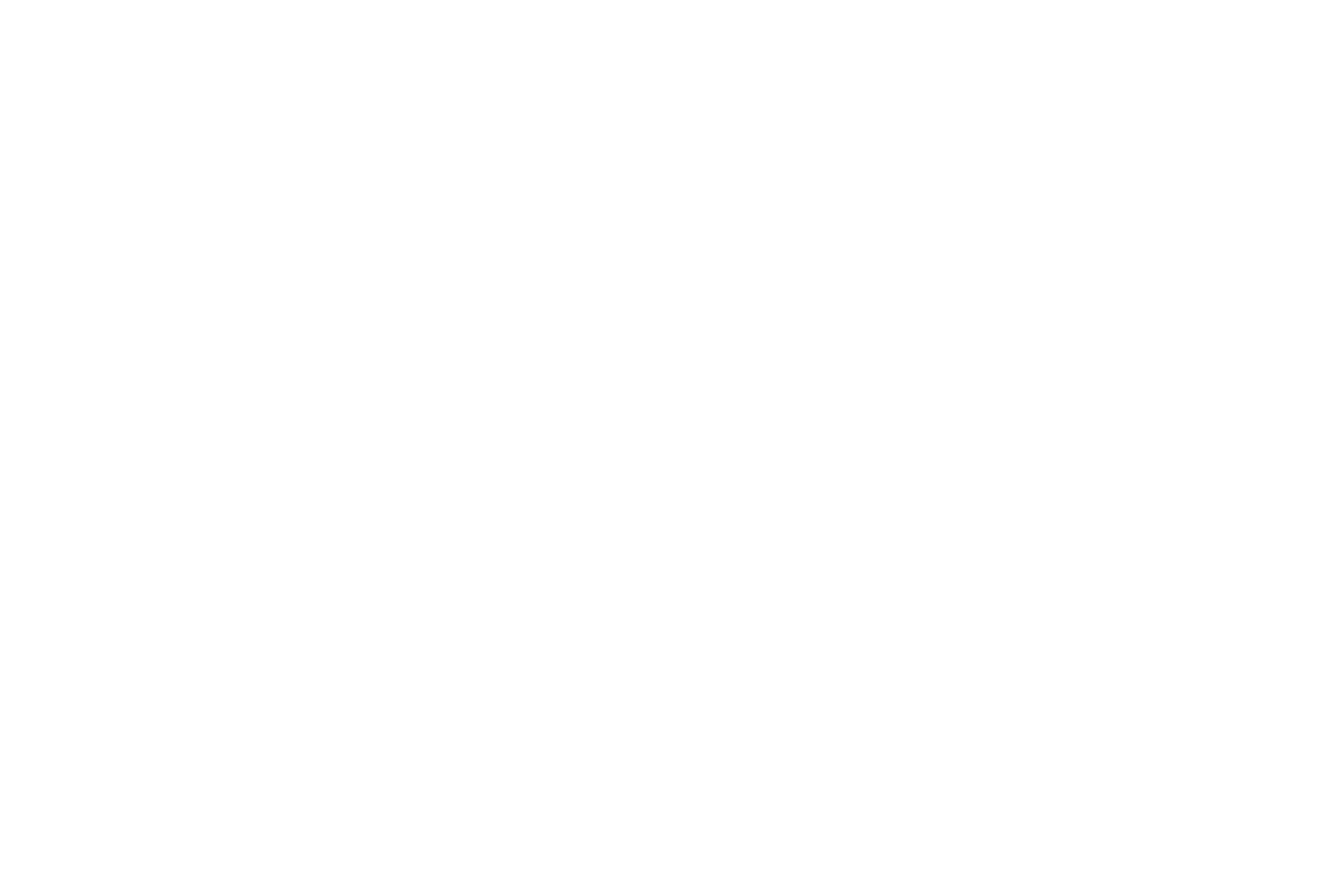
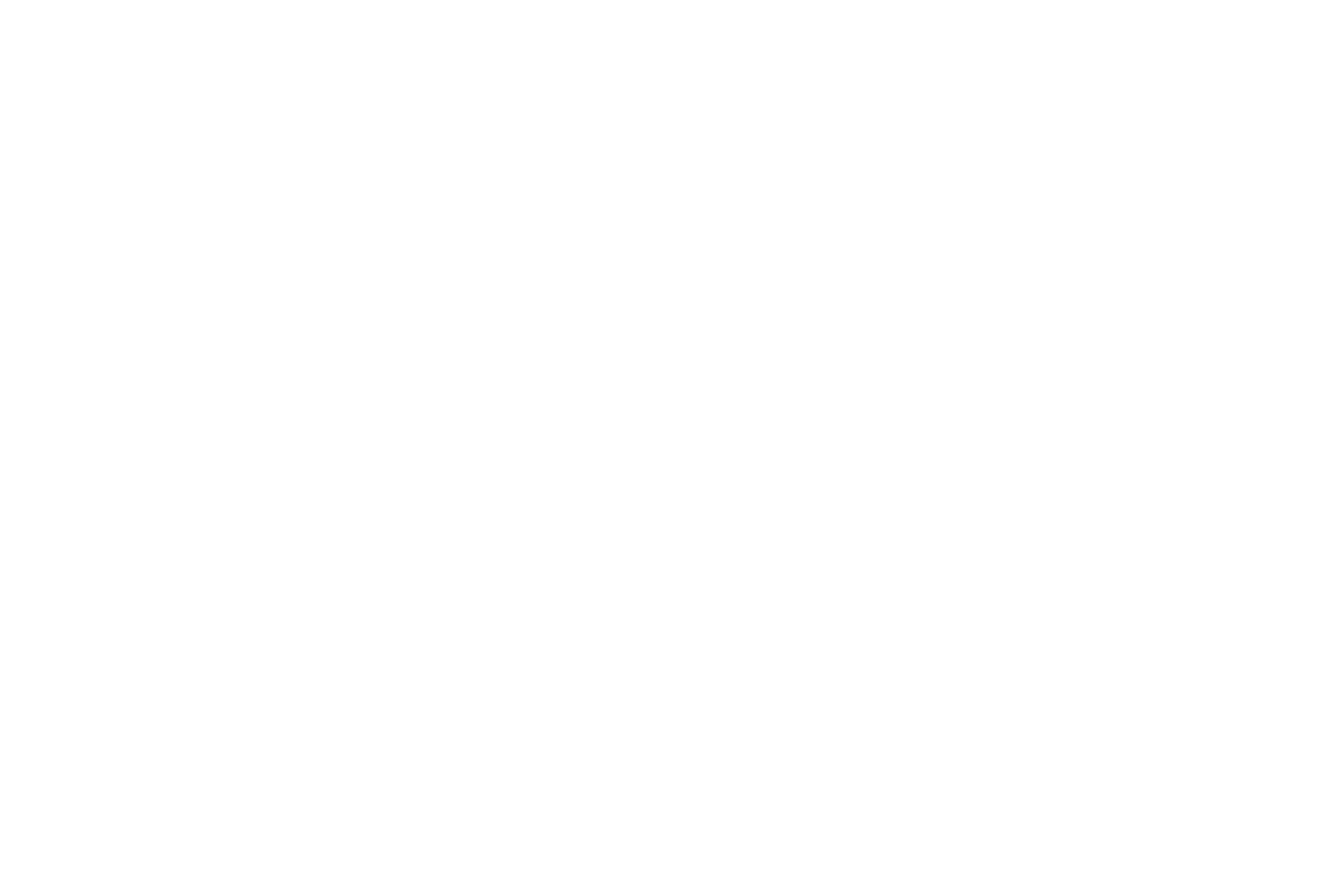
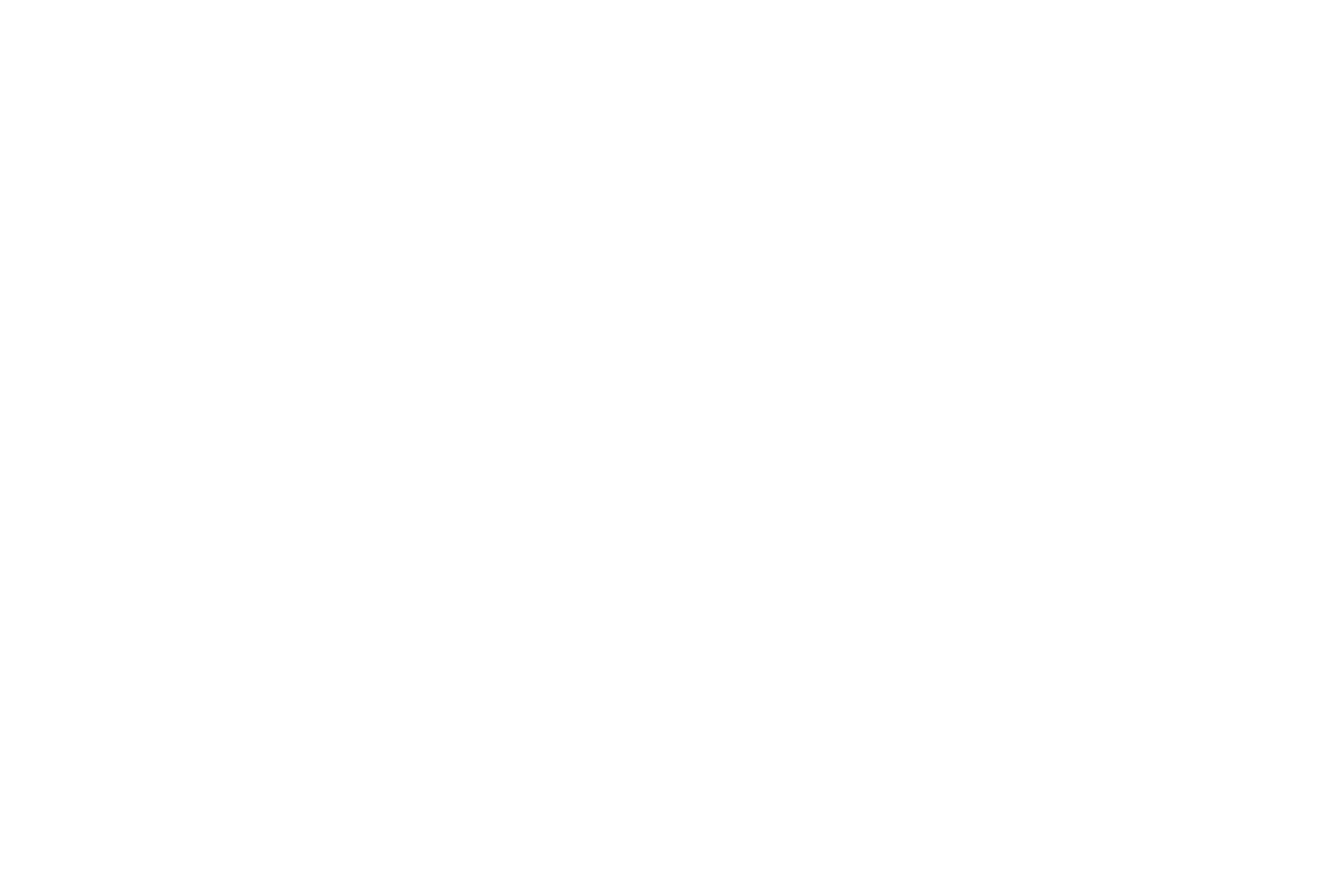
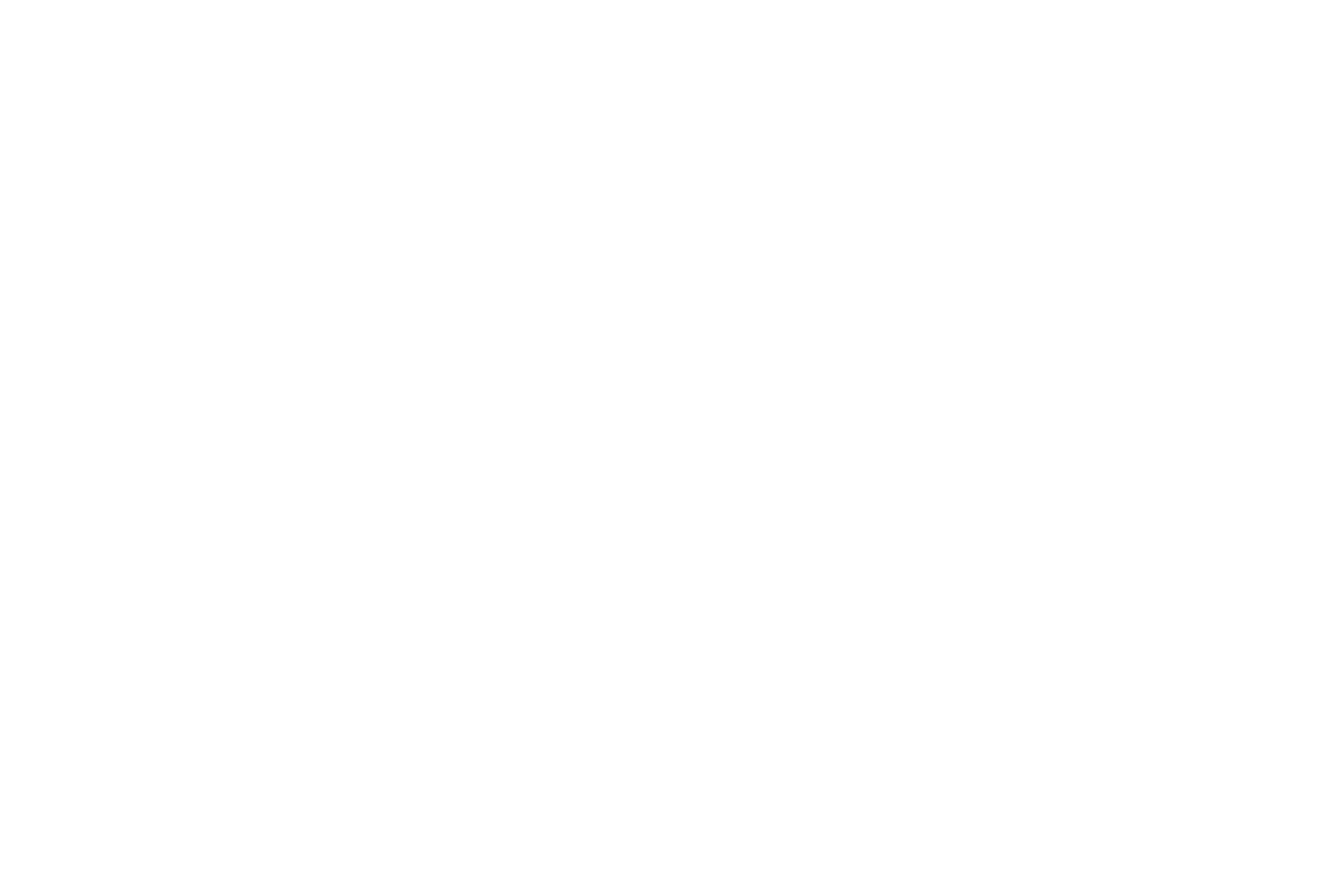
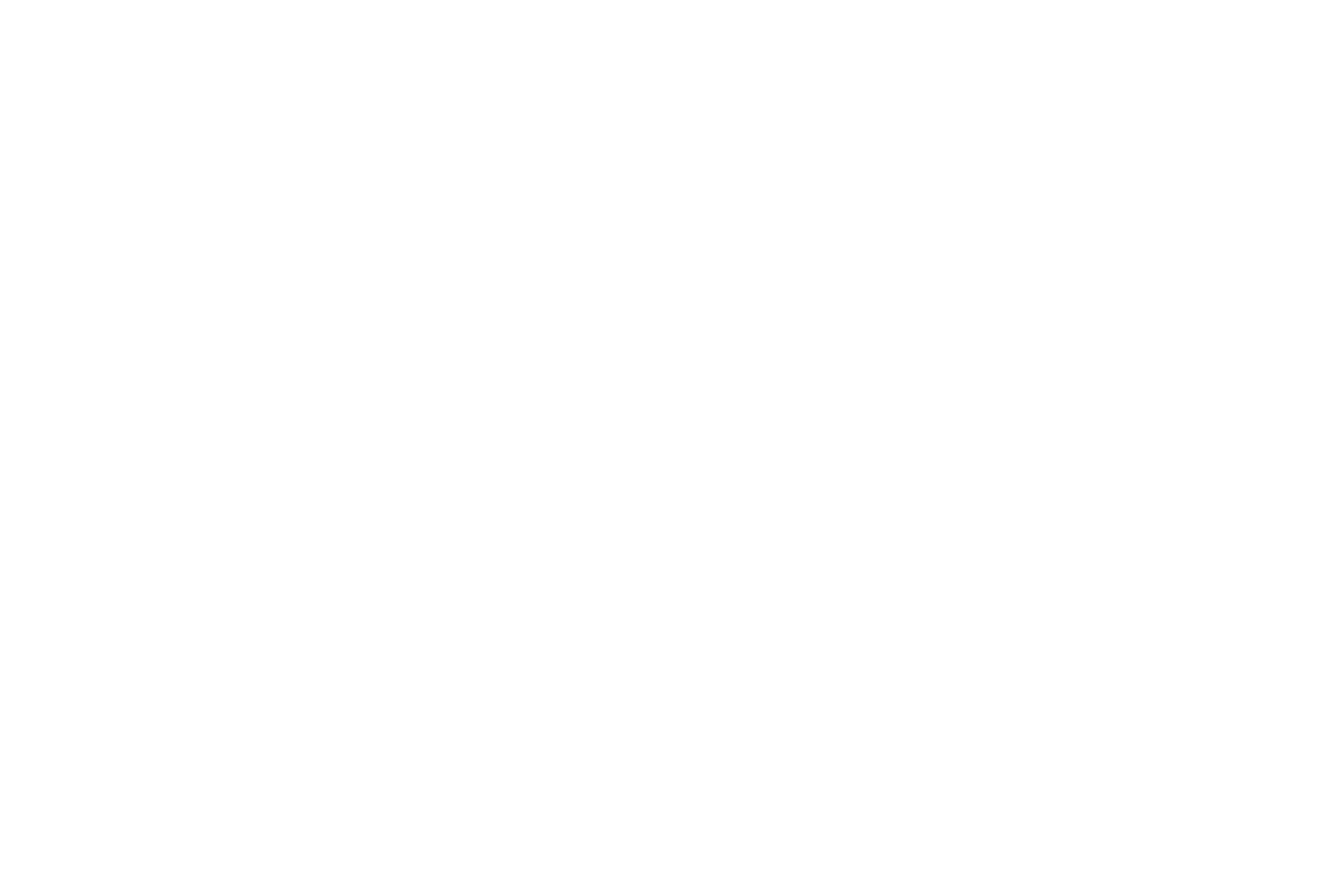
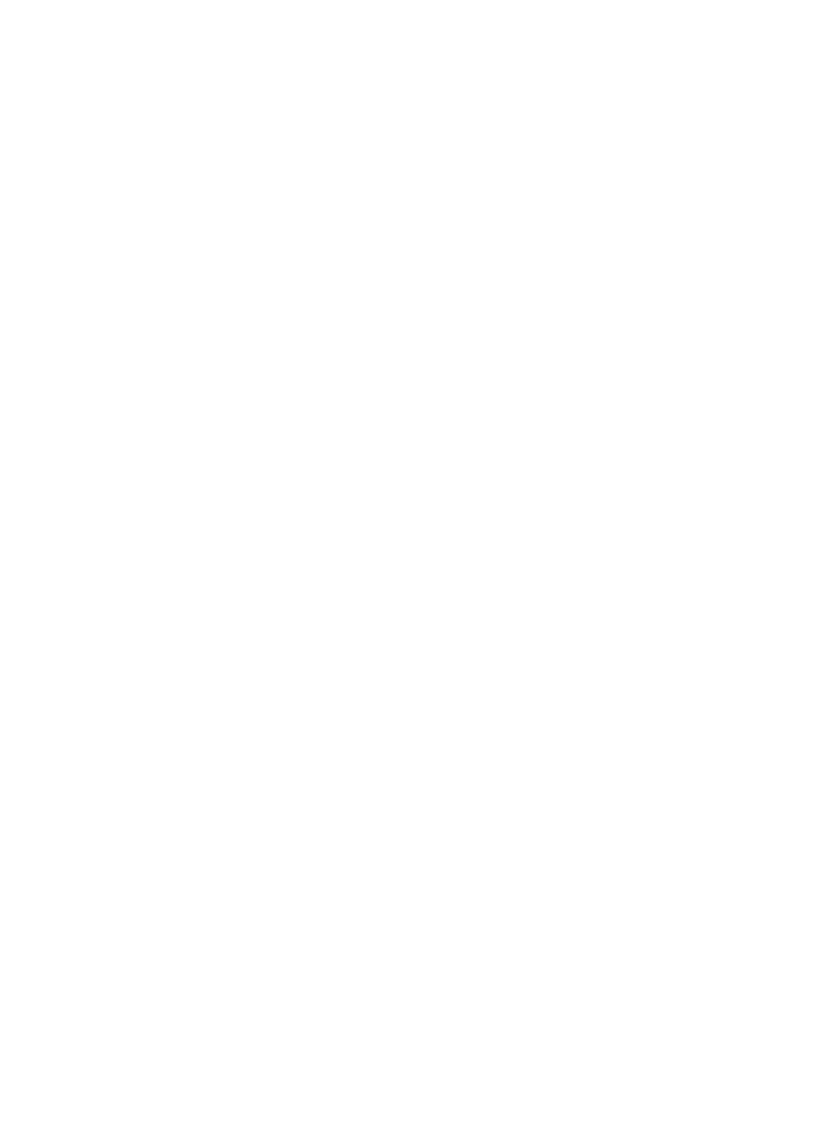
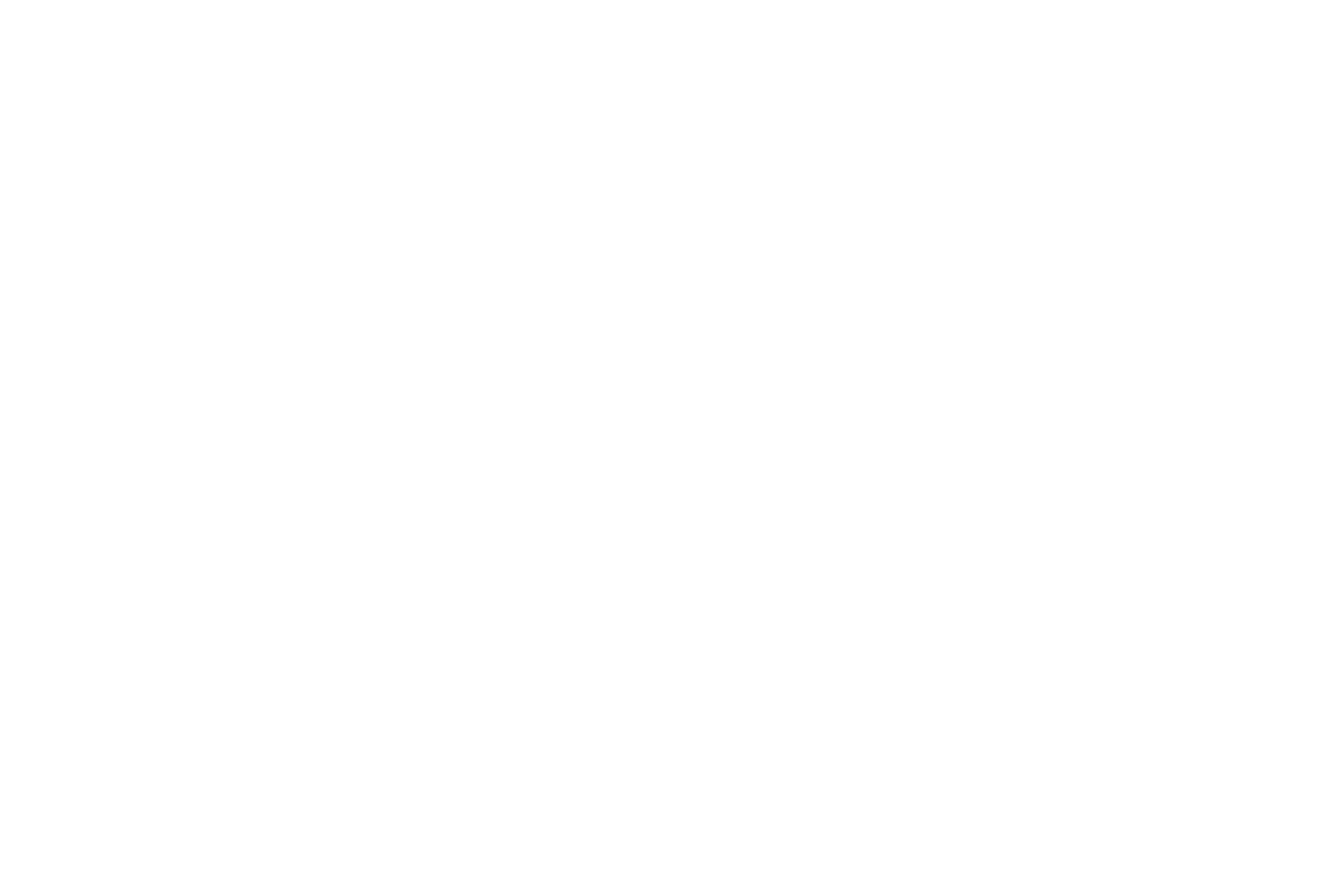
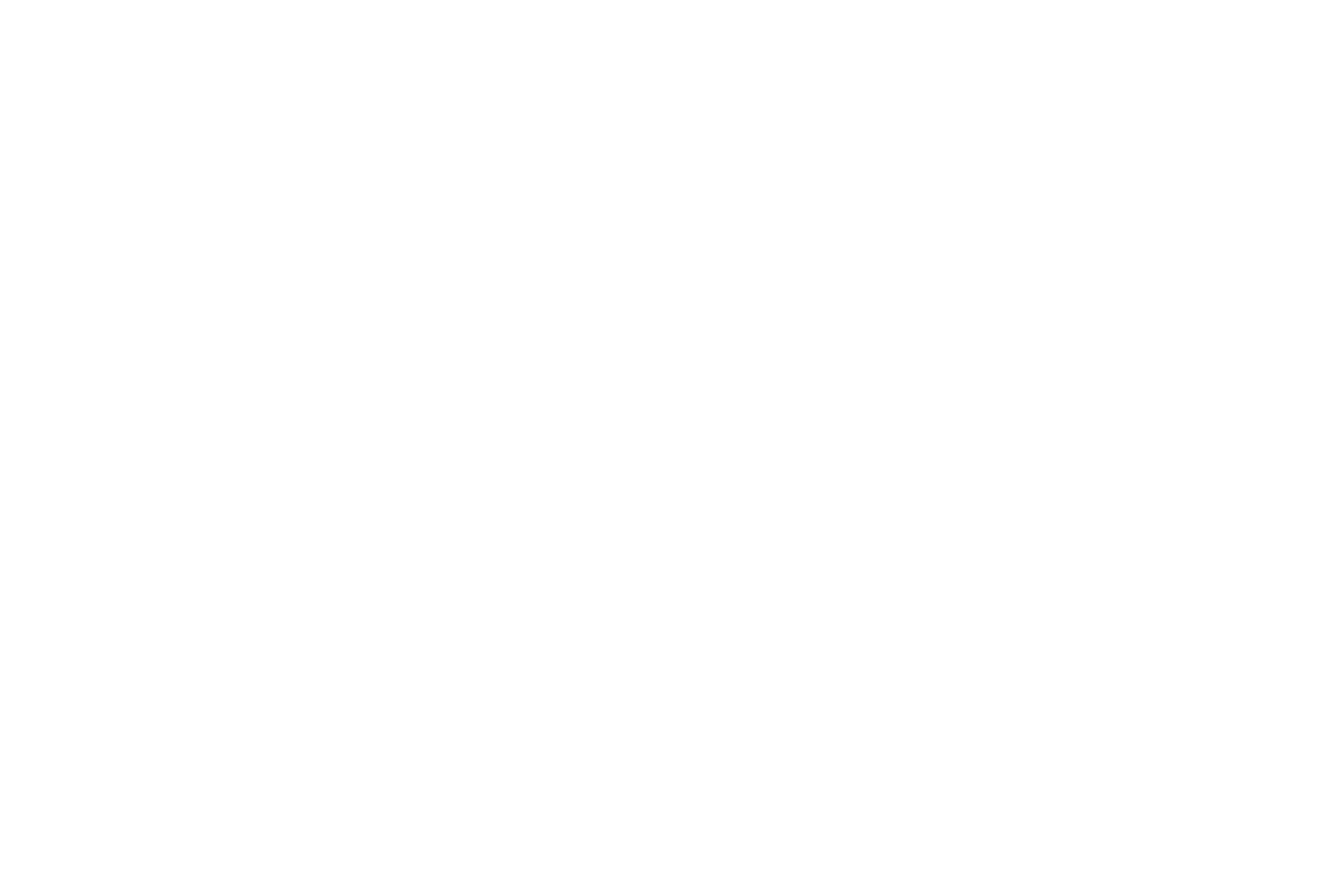
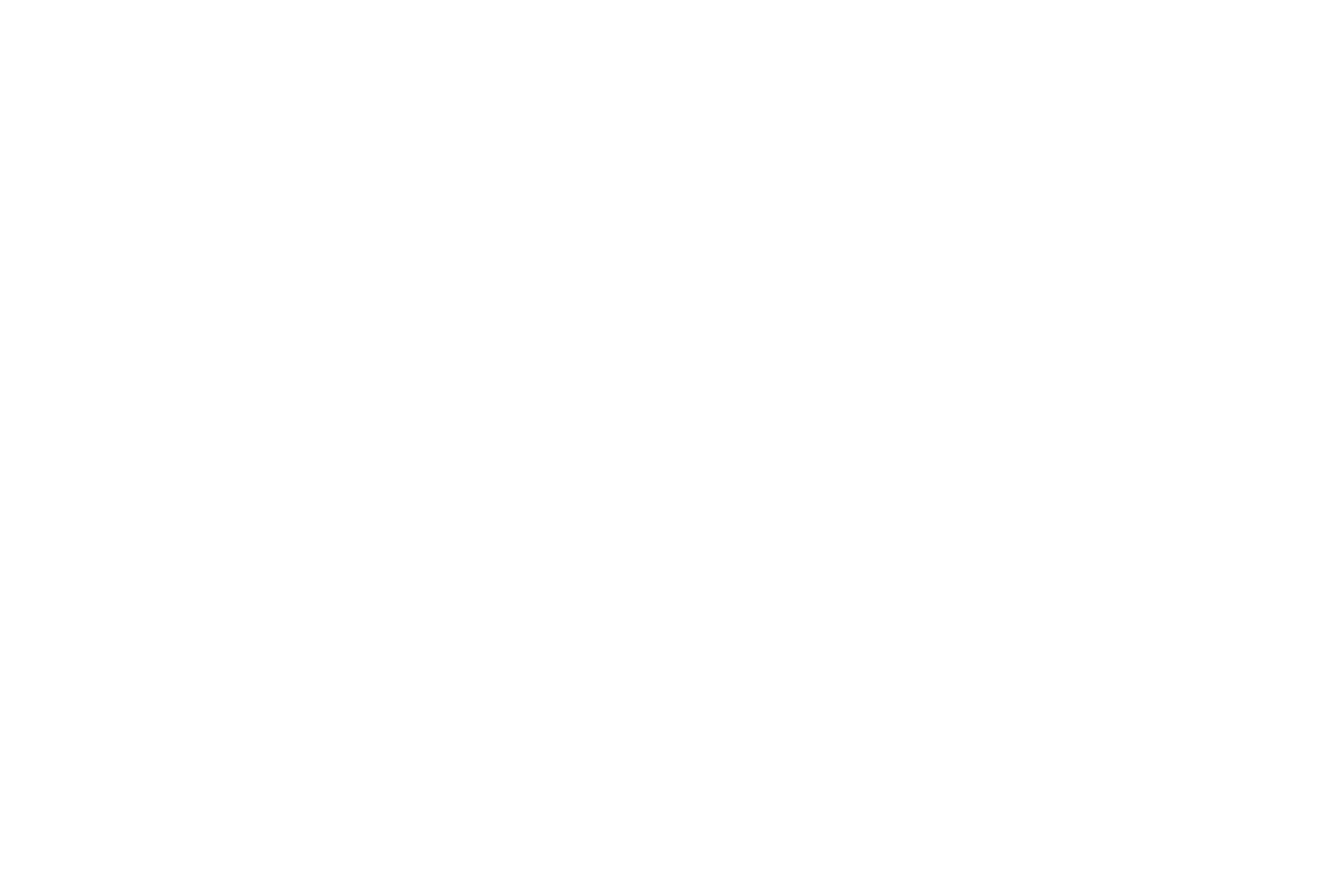
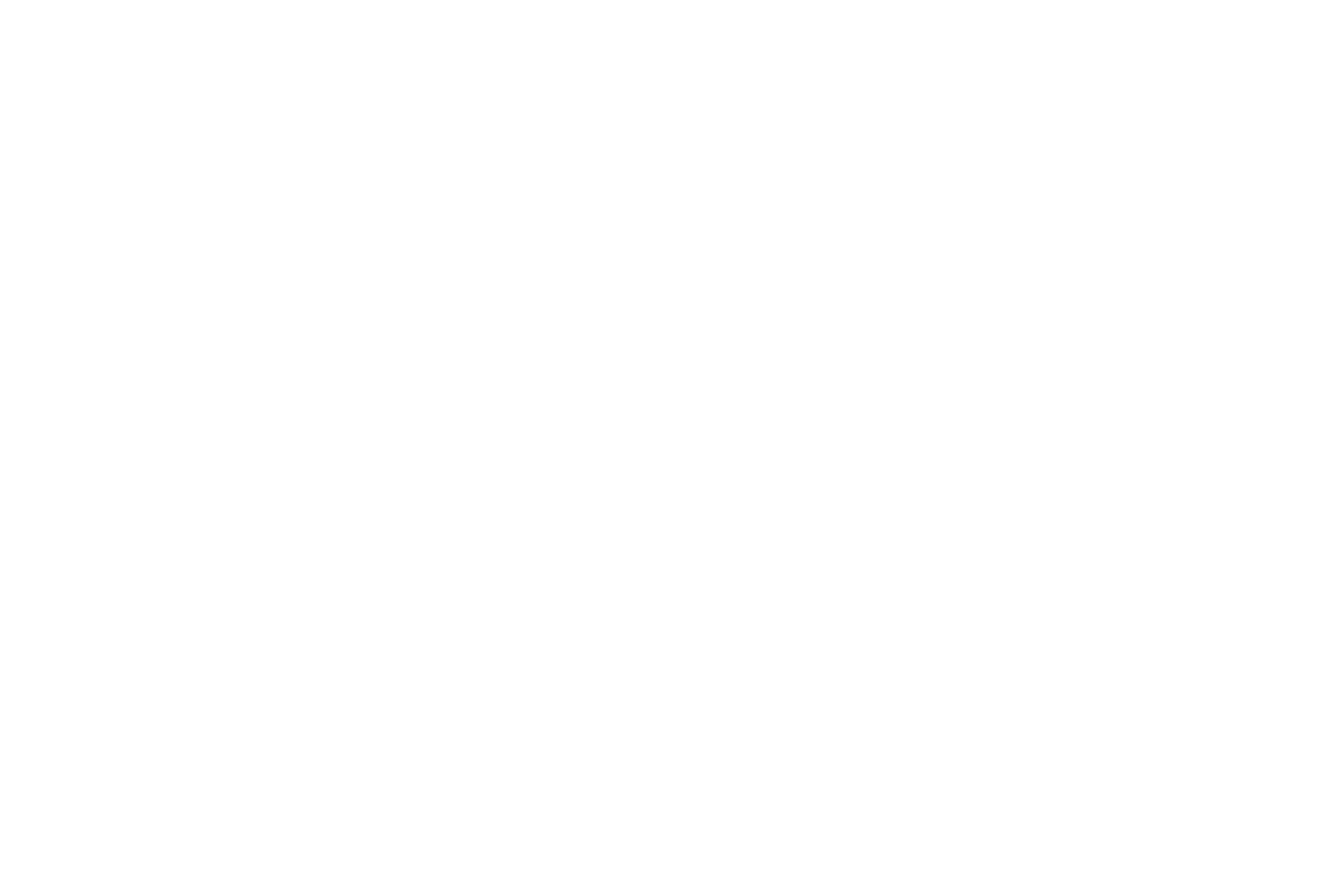
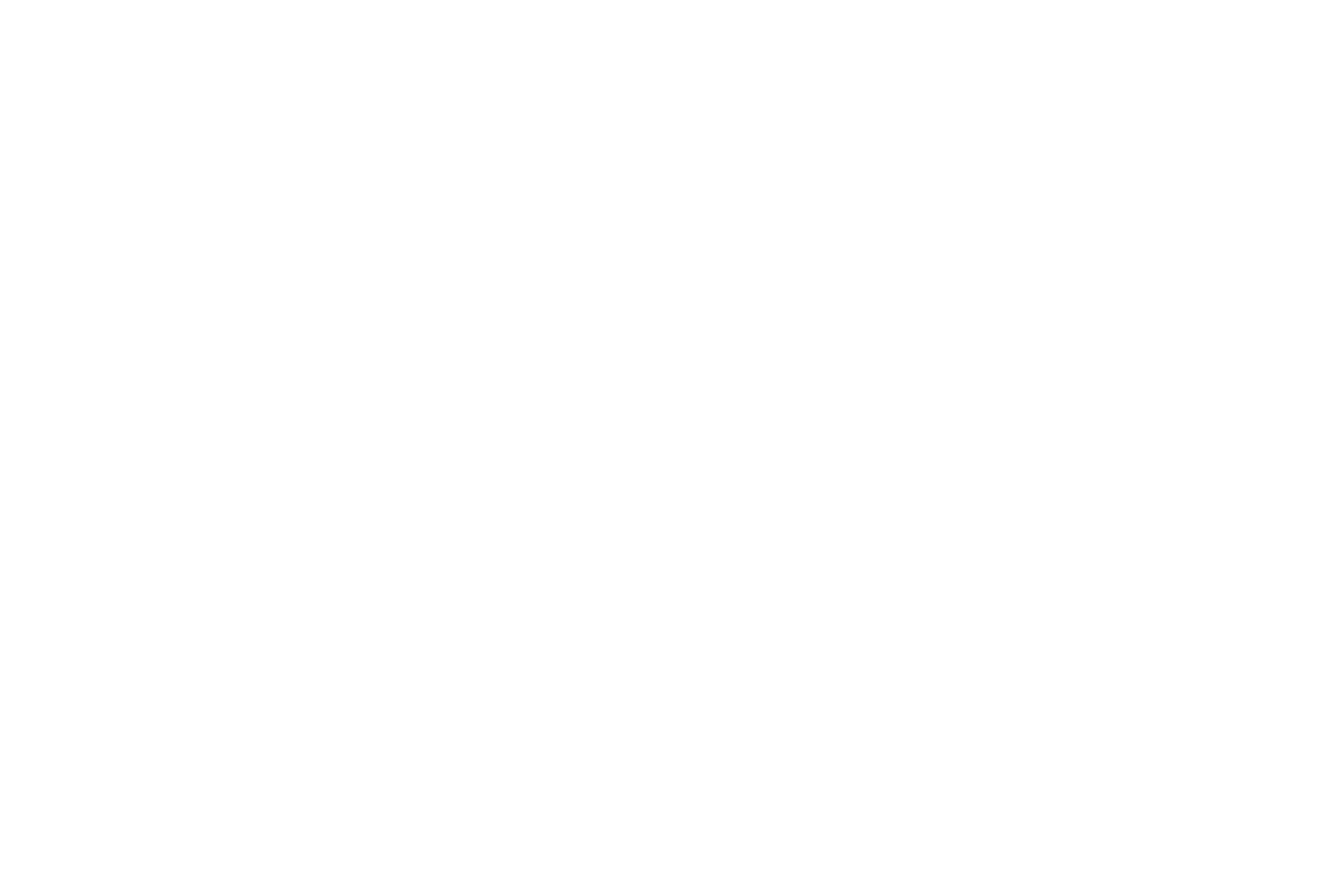
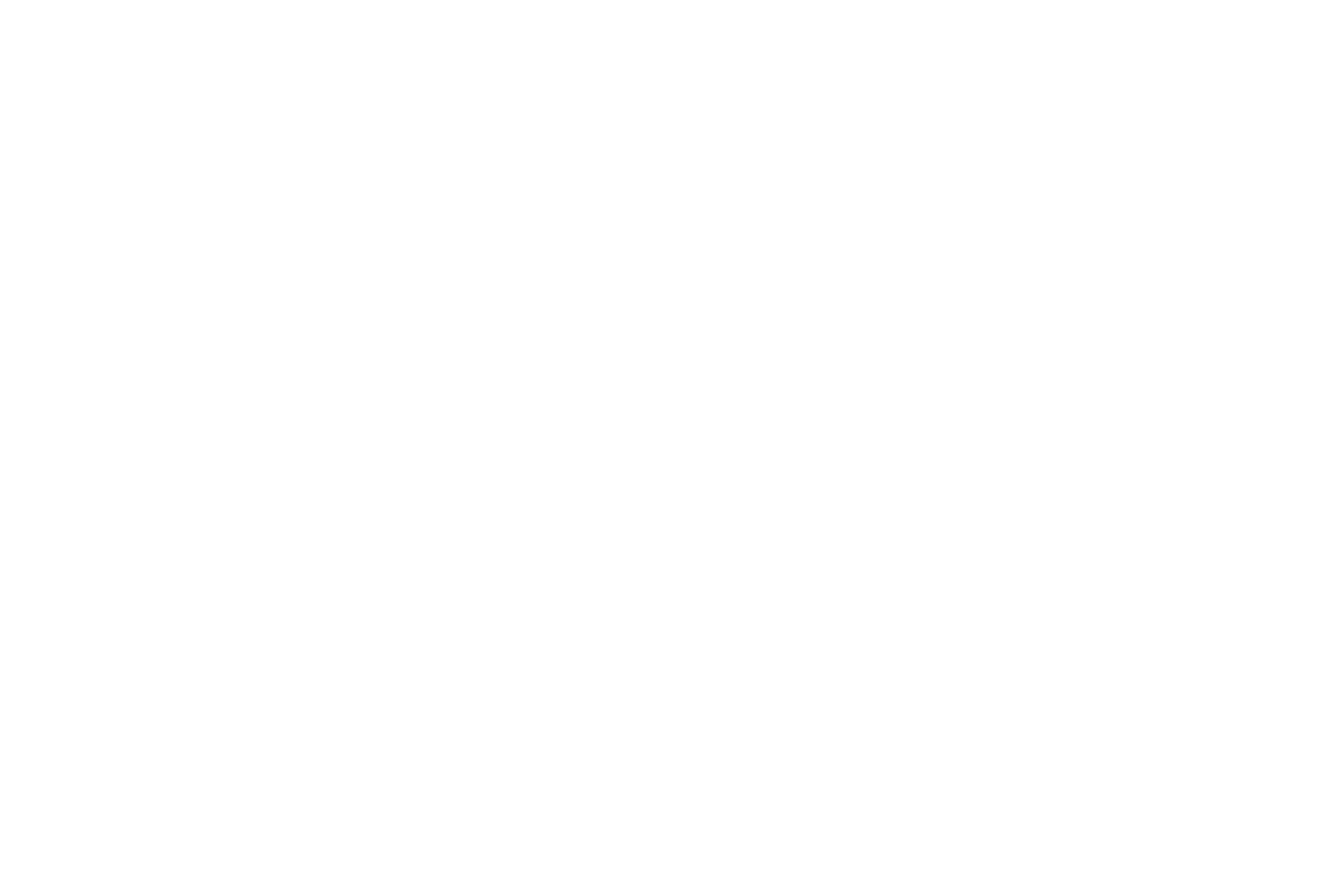
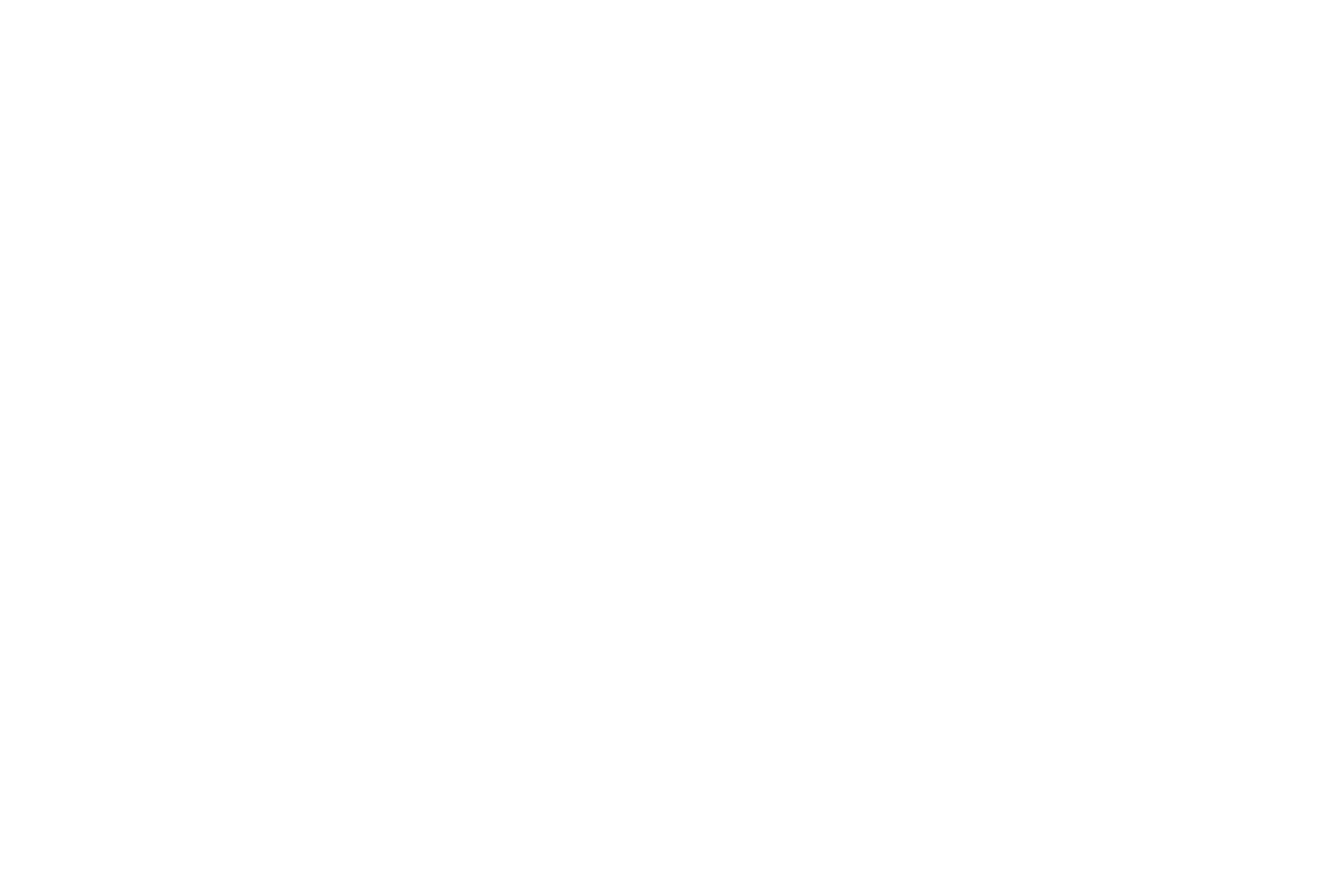
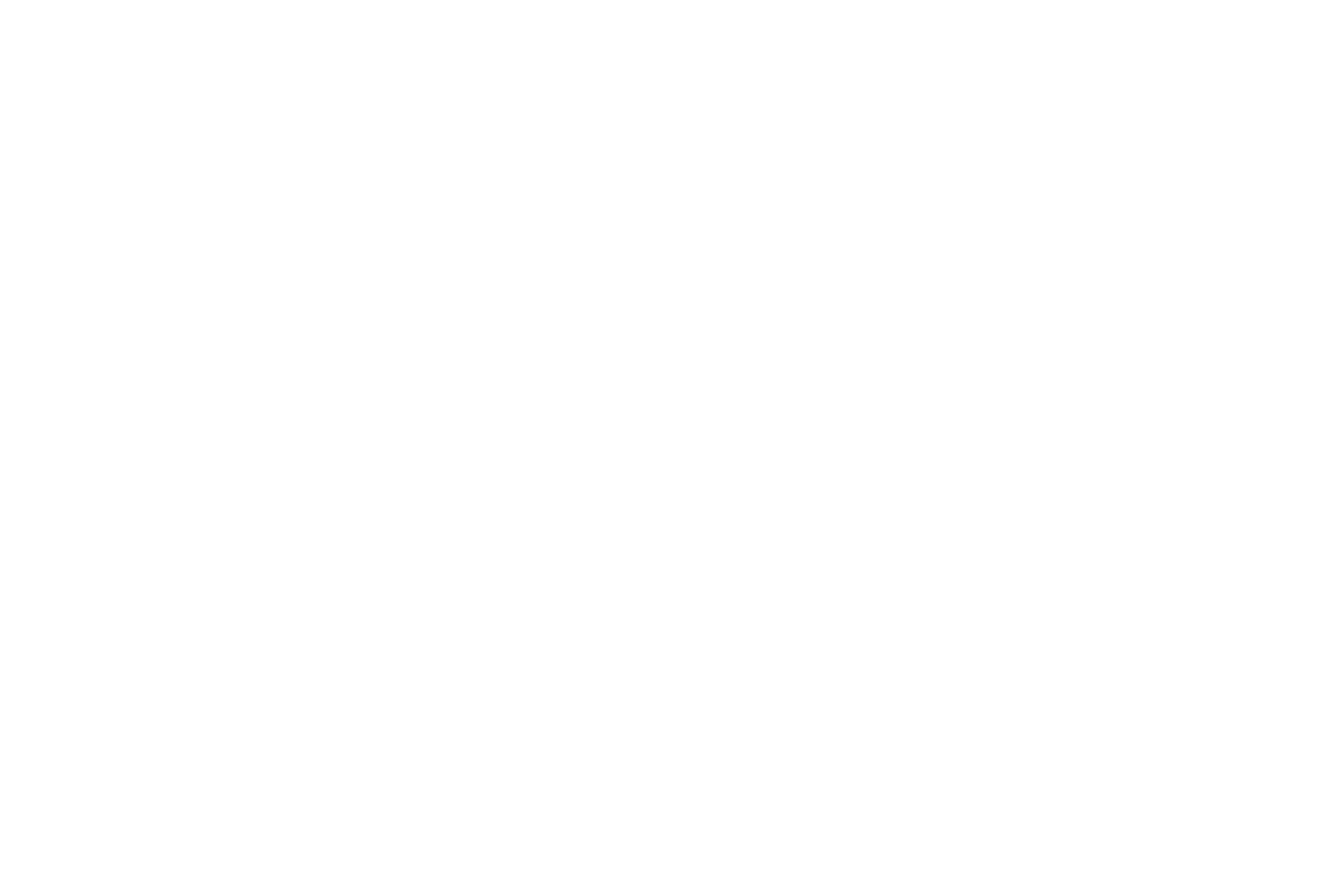
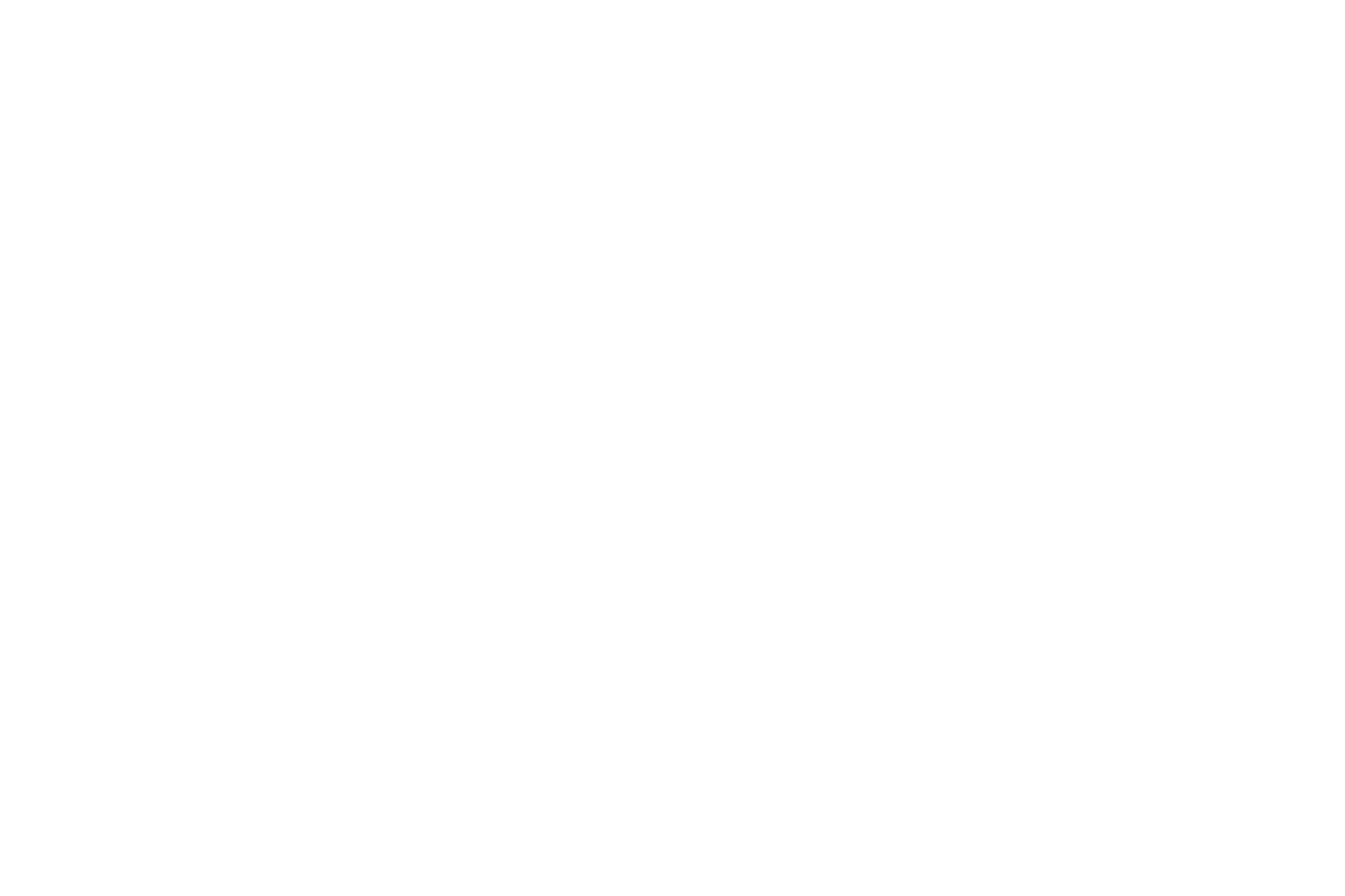
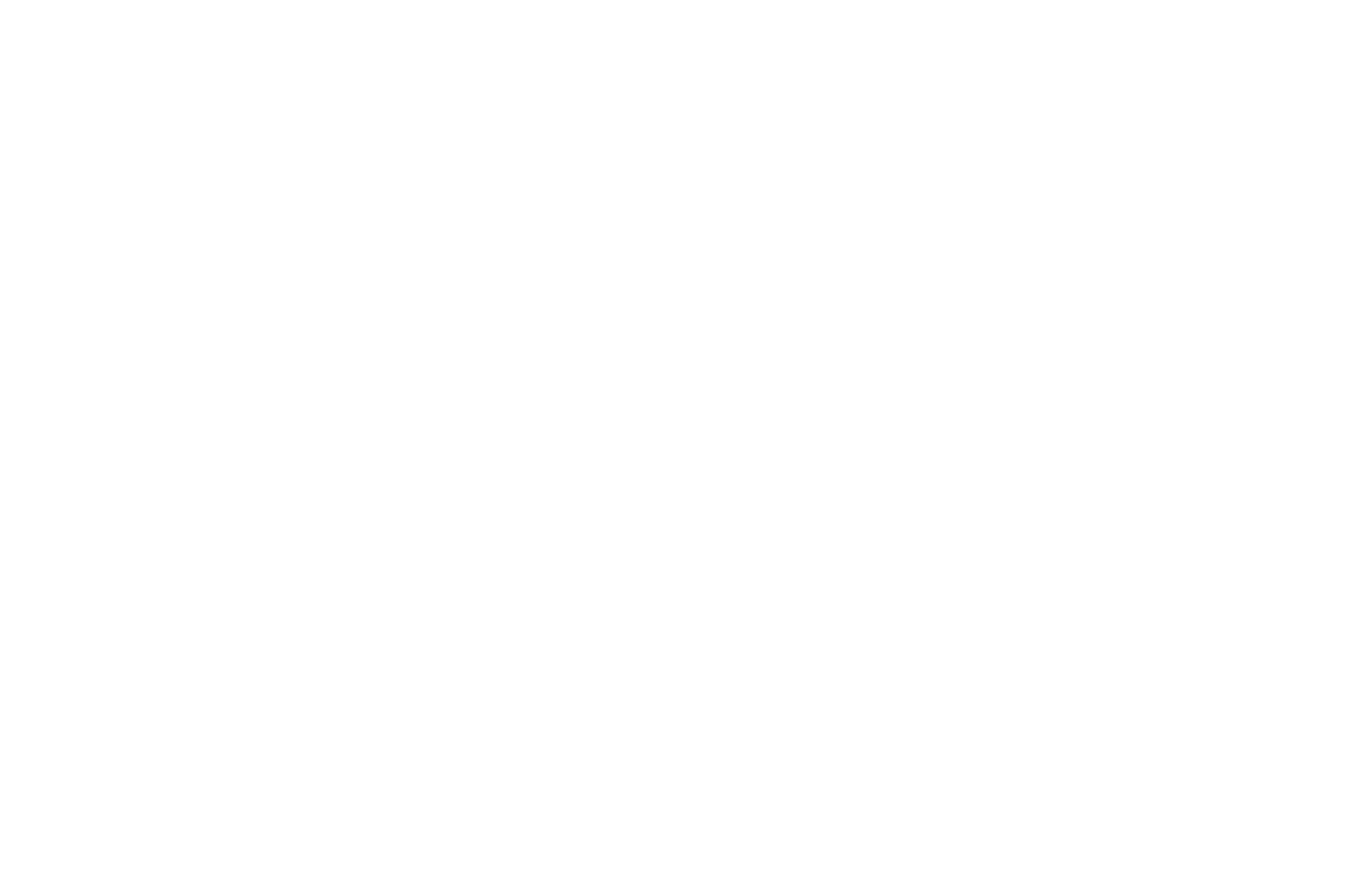

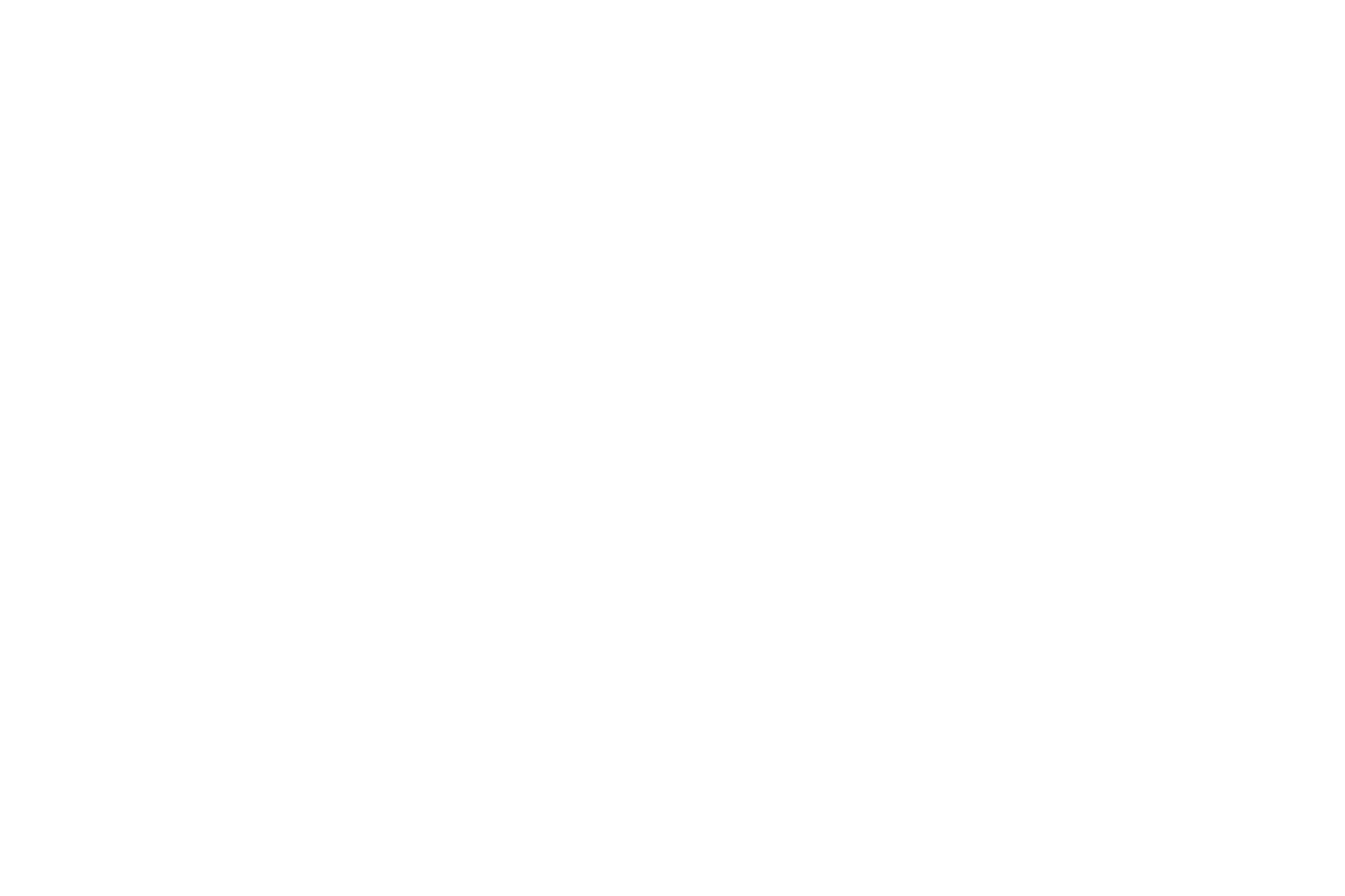
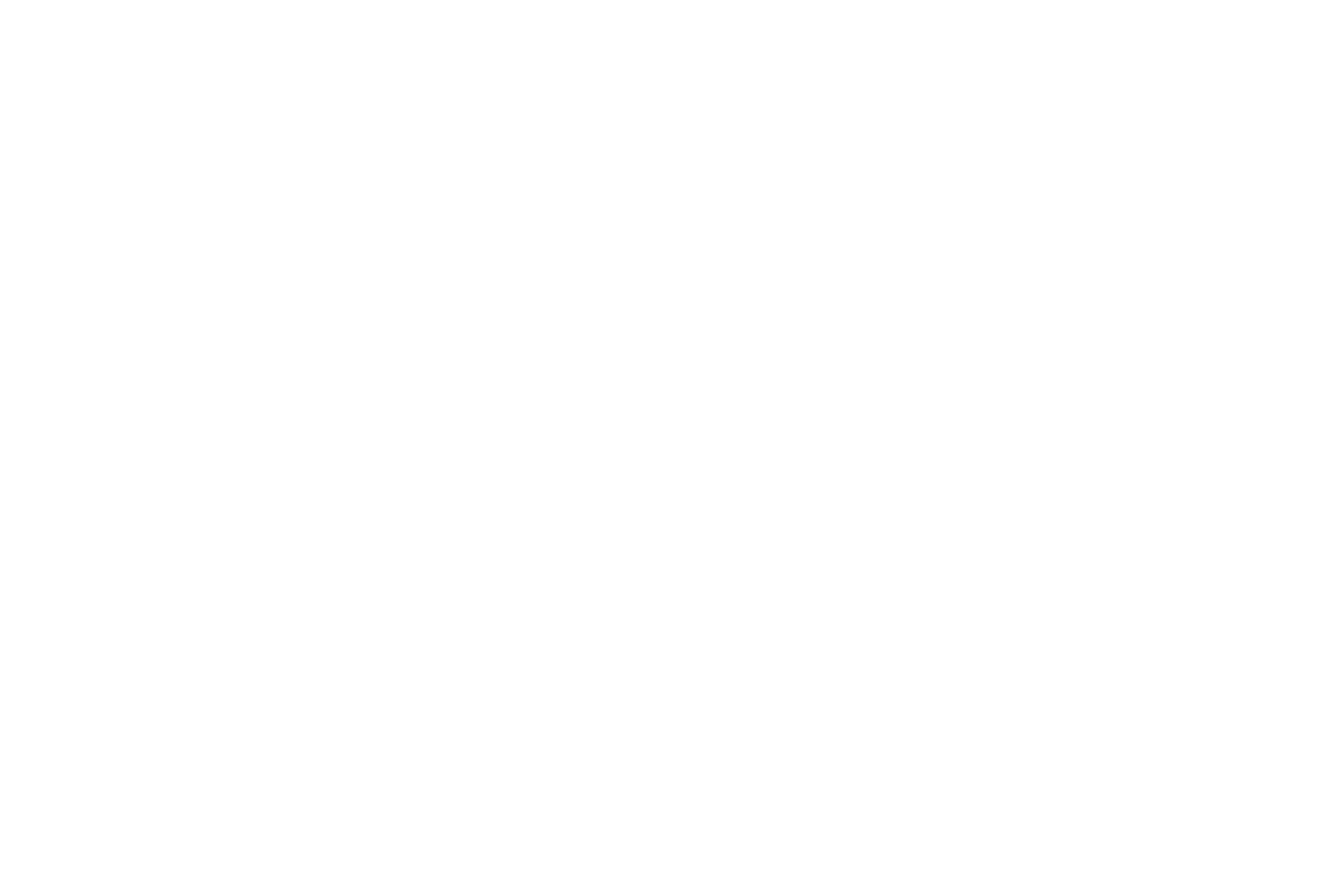
Эскизы
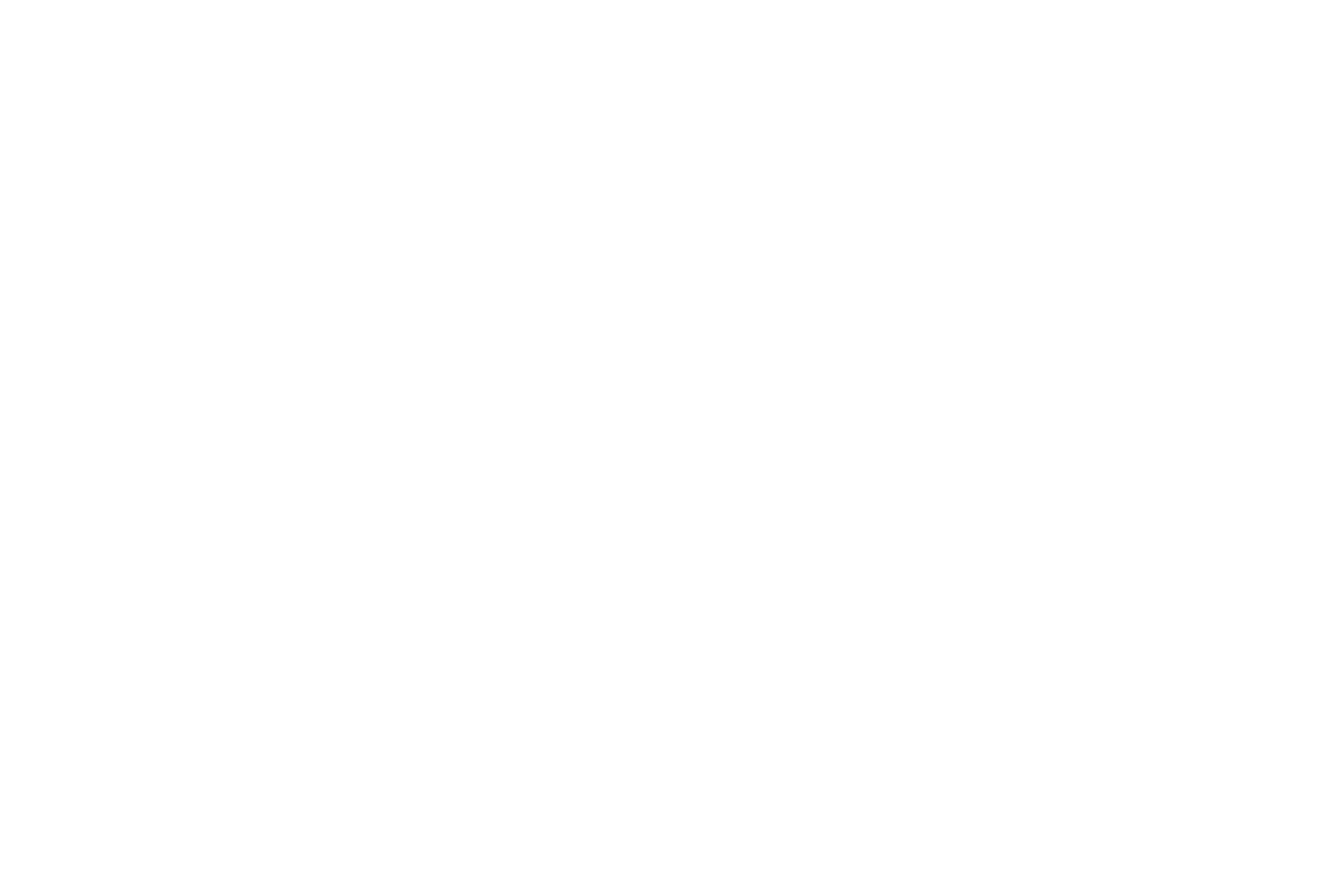
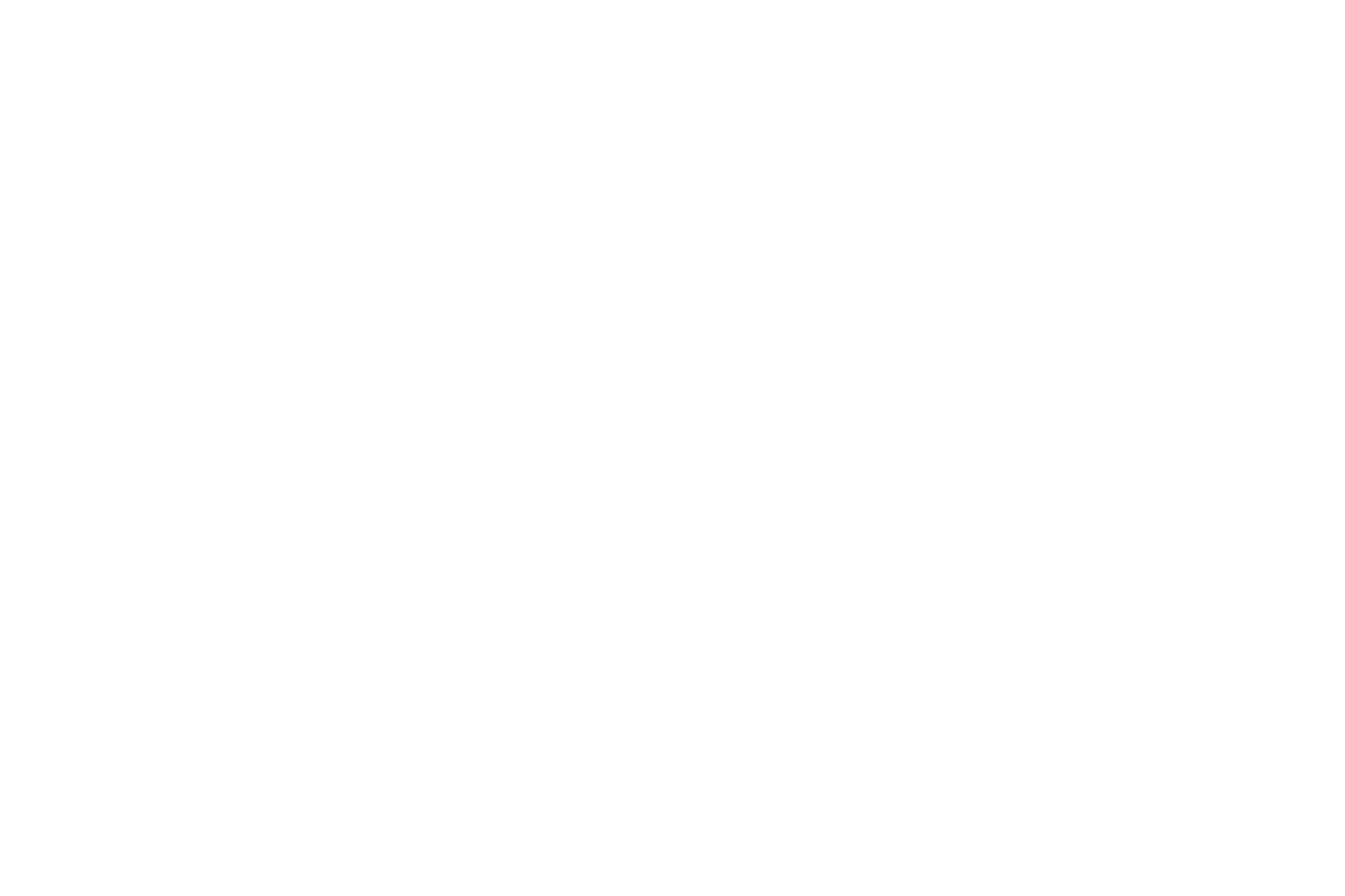
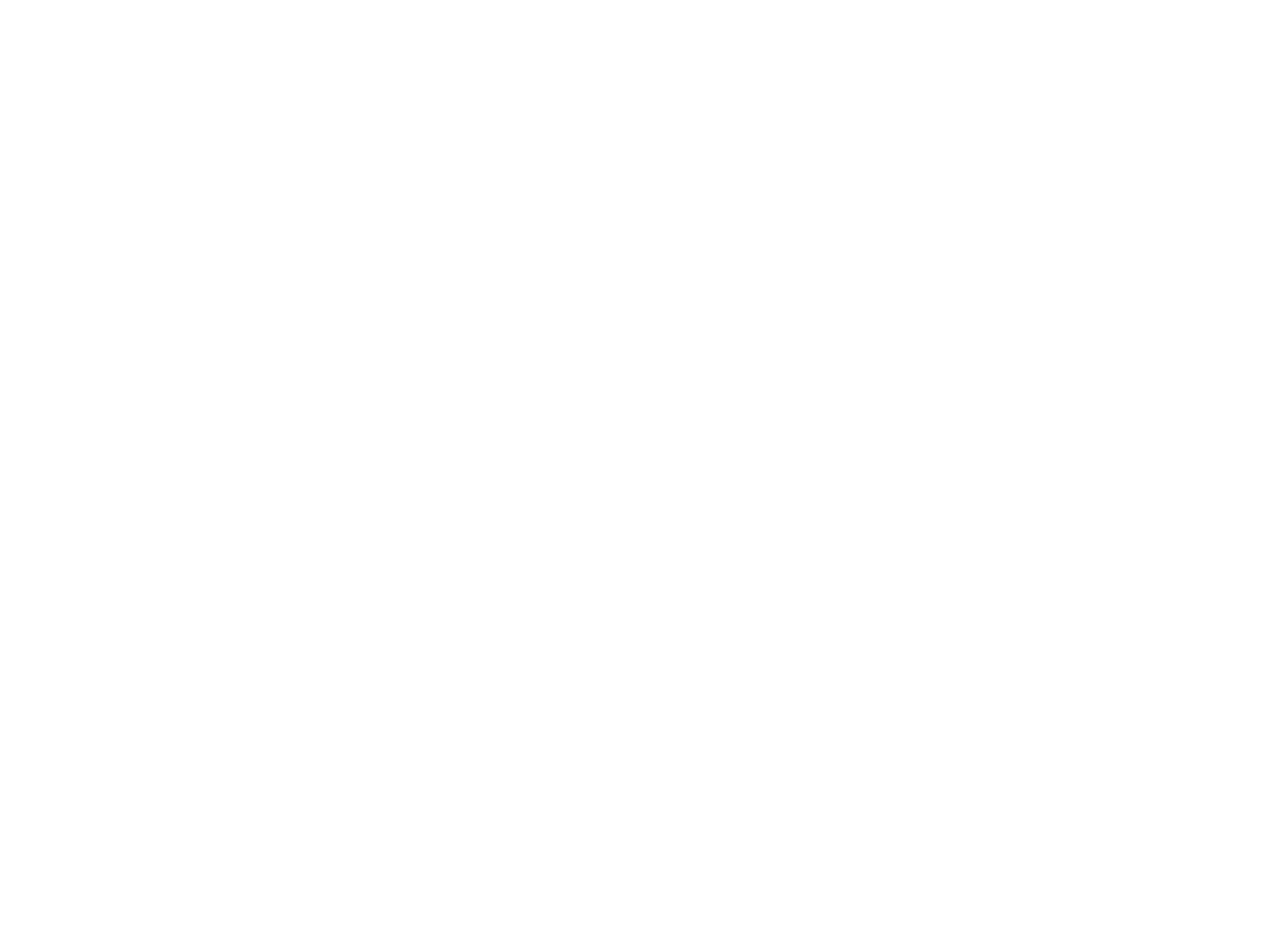
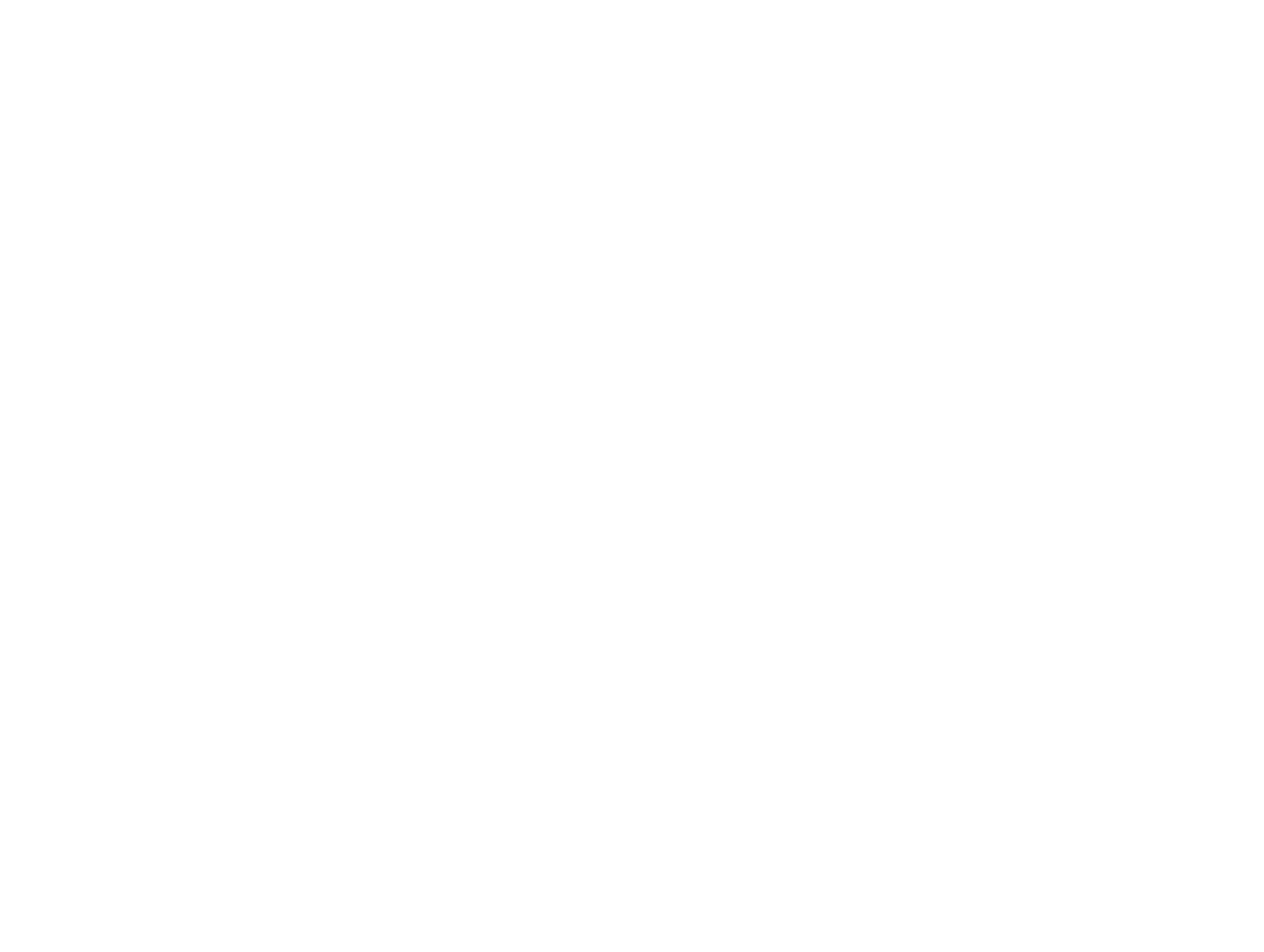
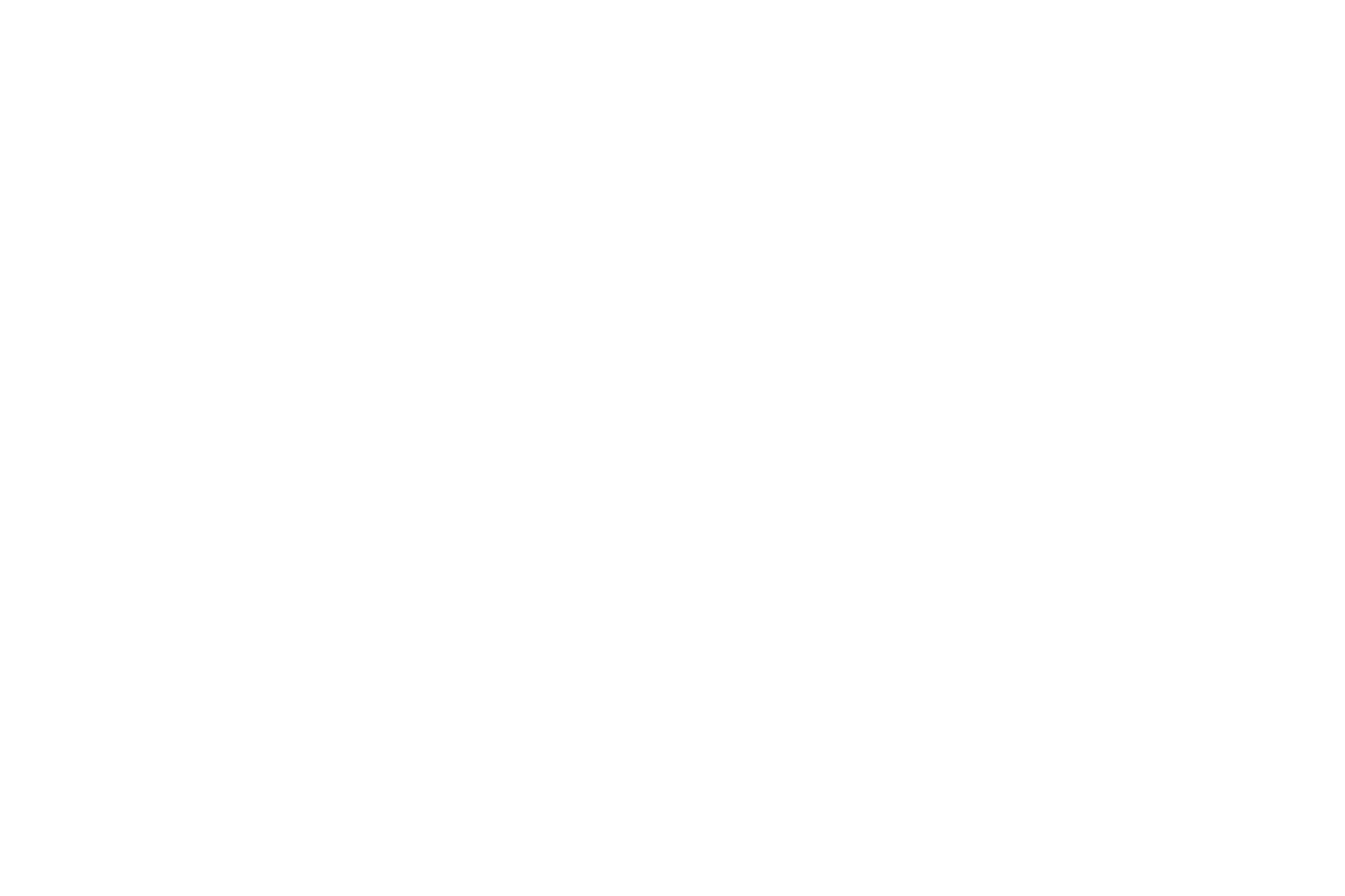
The Storm, by Pierre Auguste Cot

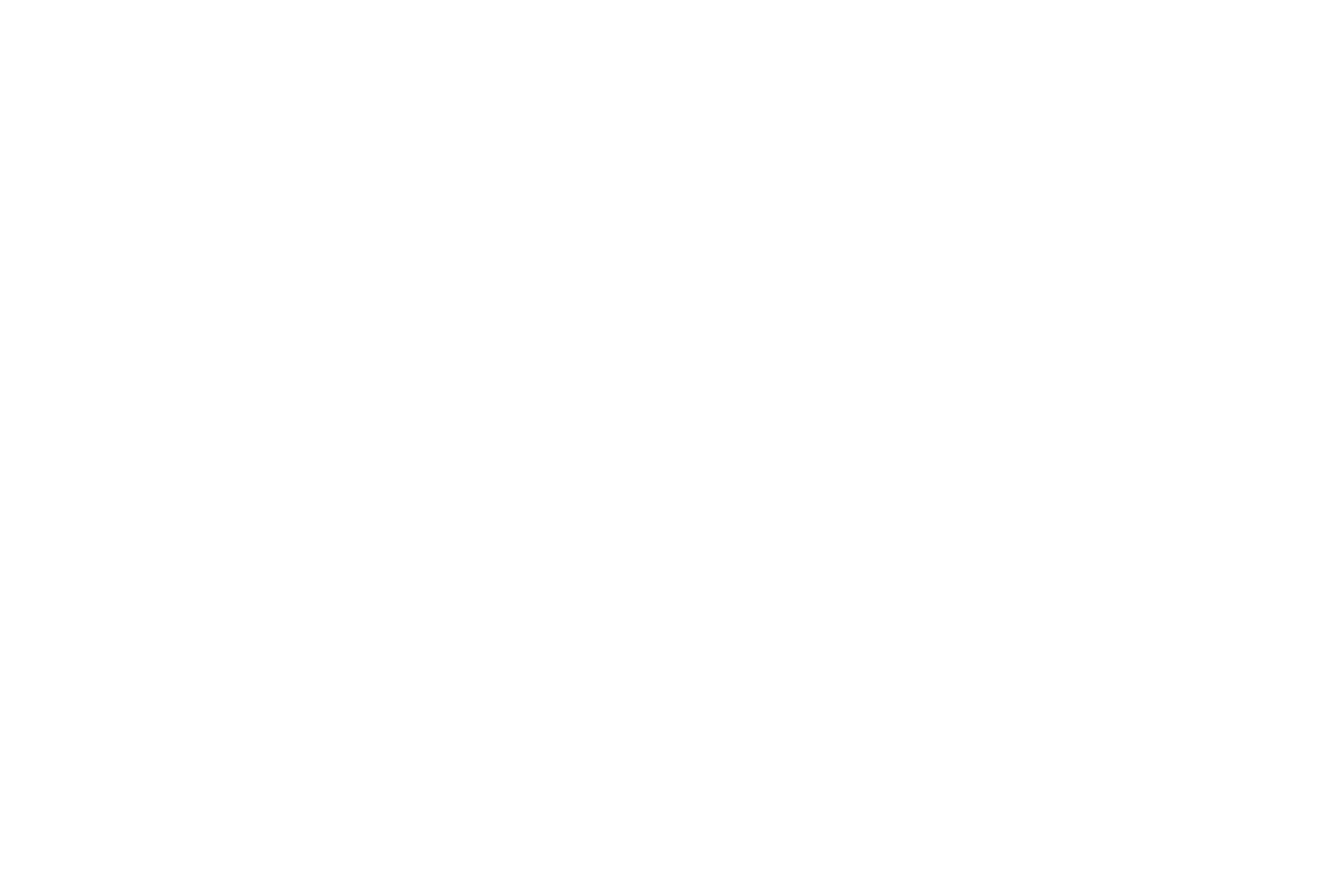

эскиз
эскиз
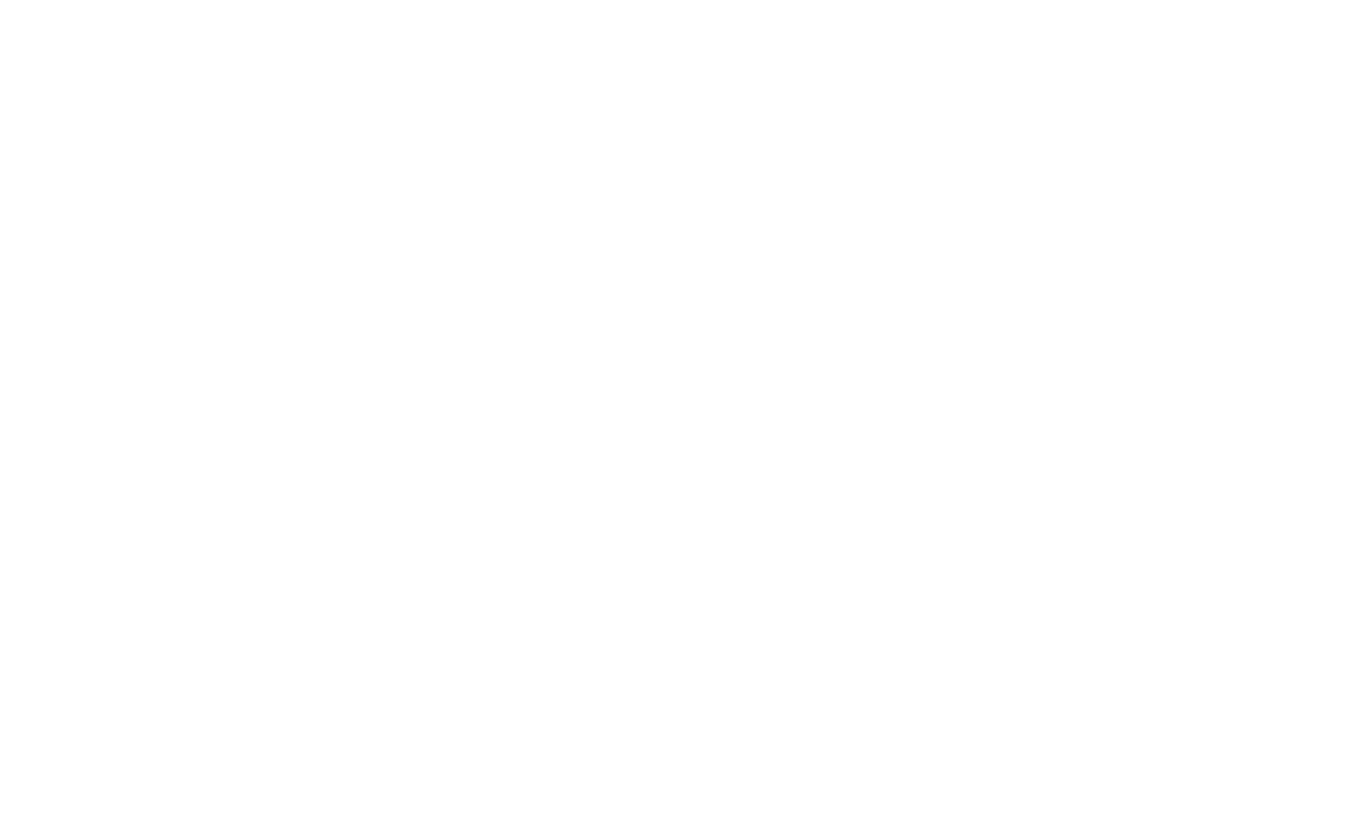
Хейвуд Харди " Охота на Лис"
эскиз
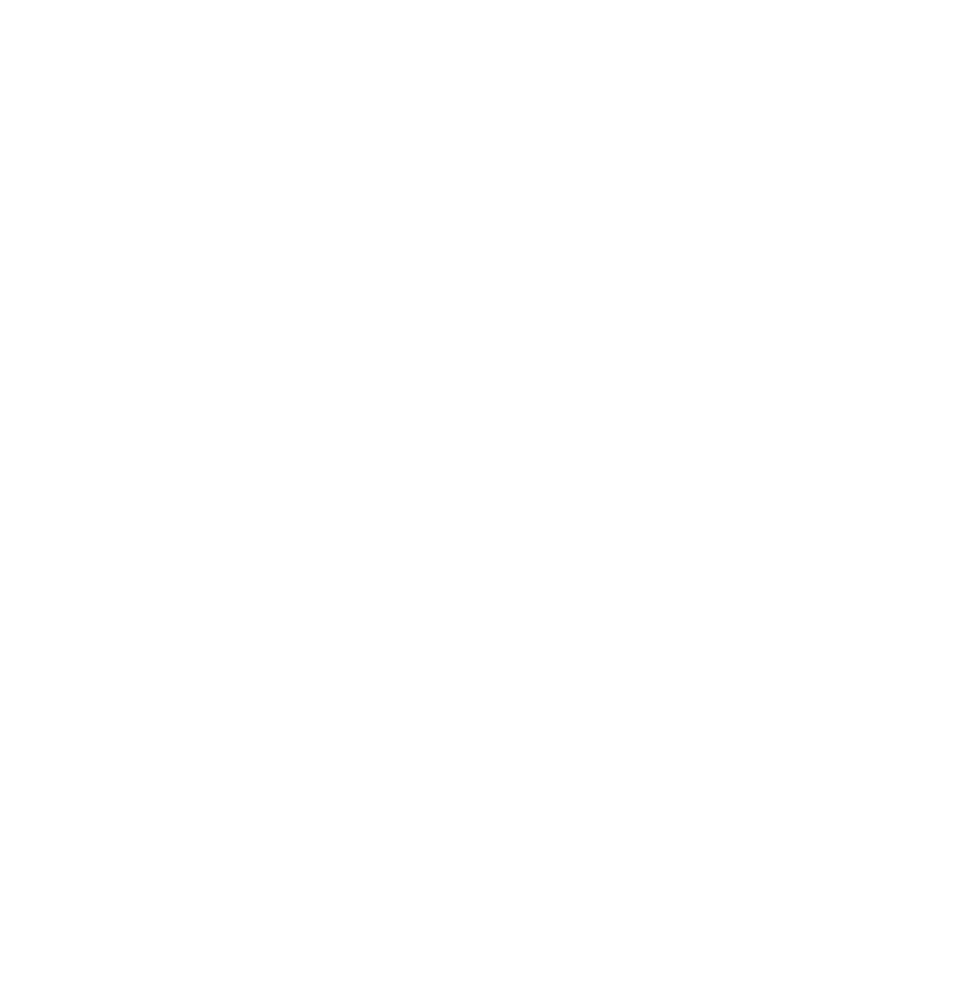
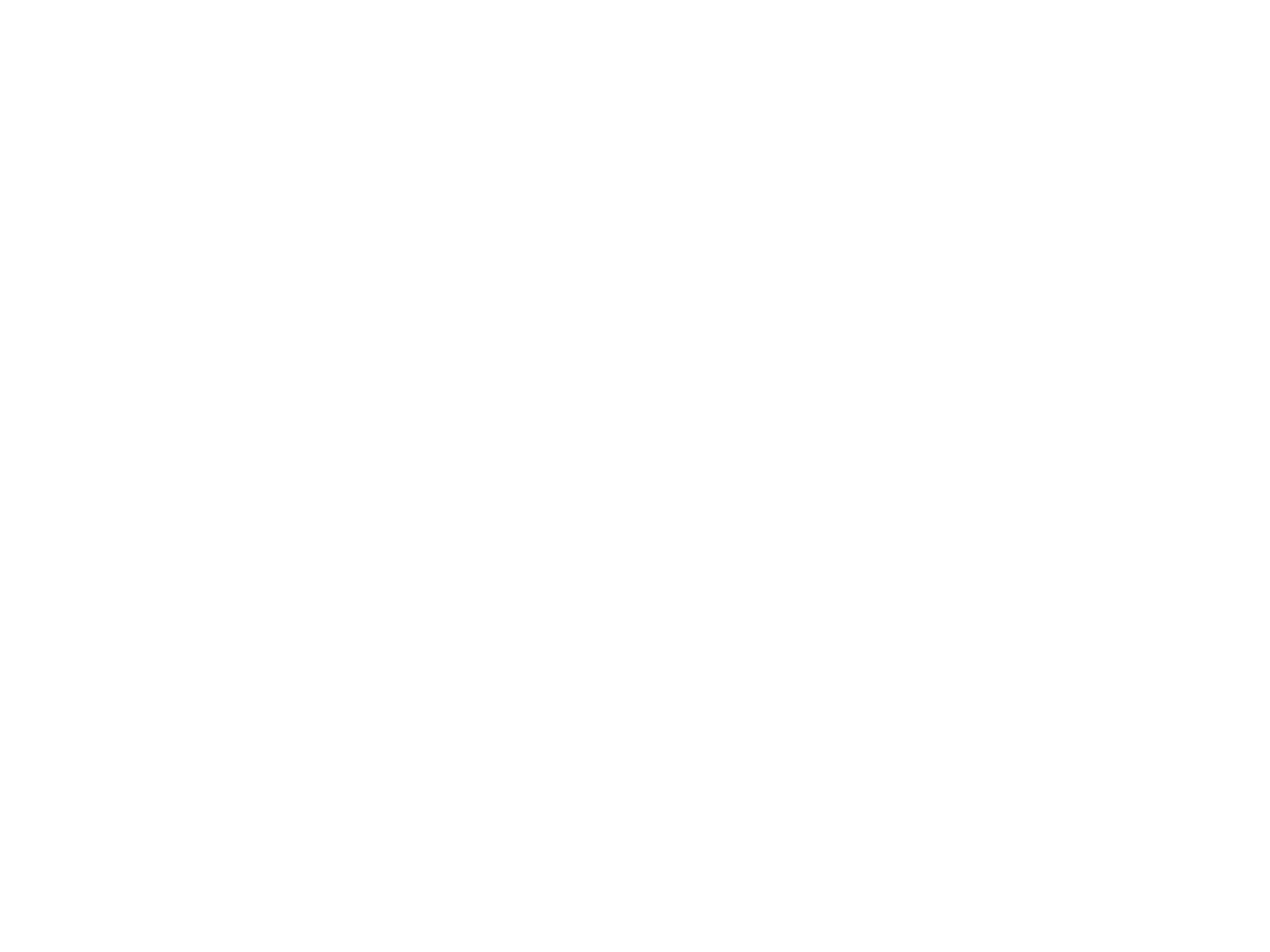

Биологическое и цифровое
<< ПУЛЬС
РАСПРЕДЕЛЕННОГО
ТЕЛА <
Медиаперформанс. Пульс Распределенного тела
Соавтор Дмитрий Сошников
Новая версия медиаперформанса Биение, 2013-2014 г.
На возобновление перформанса меня натолкнул текст Франко
"Бифо" Берарди
Соавтор Дмитрий Сошников
Новая версия медиаперформанса Биение, 2013-2014 г.
На возобновление перформанса меня натолкнул текст Франко
"Бифо" Берарди
«Все, что нам нужно, - немного порядка, чтобы защититься от хаоса. Нет ничего более томительно-болезненного, чем мысль, которая ускользает сама от себя… Мы все время теряем свои мысли… Пусть только наши идеи будут взаимосвязанными согласно каким-то минимальным постоянным правилам» (Делез & Гваттари «От хаоса к мозгу» в «Что такое философия?»)
В 1919 году Шандор Ференци, общаясь с немецким журналистом, сказал, что психоанализ не обладает инструментами для лечения массового психоза и его объяснения. Даже в политике не было таких инструментов, и мы можем повторить эти слова сегодня, сто лет спустя.
Что означает массовый психоз? Приведенная выше цитата Делеза и Гваттари приближает нас к пониманию значения слова «психоз»: когда мысль ускользает от самой себя, когда мотивы поступков нельзя выявить последовательностях ментальной обработки. Когда все начинает происходить слишком быстро для того, чтобы мы могли понимать, что творится и поступать соответственно.
Поколение, выросшее в среде, где информационо-нейронная стимуляция является сверхбыстрой, безусловно, развивает способность быстрее обрабатывать стимулы, которые берутся из единой электронной среды. Но быстрый метод обработки как раз и основан на устранении тех интеллектуальных усилий, которые замедляют человеческую способность реагировать и действовать: эмоции и разум.
Следовательно, поступки имеют тенденцию становиться лишенными как эмоциональной глубины, так и рациональной мотивации.
Психология тоже, кажется, не подходит для объяснения того, что происходит с современным общественным сознанием и коллективным поведением. Все чаще случаются эпизоды, которые психологическая наука не в состоянии объяснить с помощью имеющихся в ее распоряжении диагностических инструментов. Эпизоды, которые сигнализируют о глубокой мутации в поведении, мутации, которая влияет не только на психическую динамику, но и, возможно, на способы когнитивной обработки. Вспомните об (все более частых) актах разрушительного насилия, совершаемых очень молодыми людьми.
Падерно-Дуньяно — город в провинции Милан состоит из вилл, населенных средним классом. В начале сентября на одной из таких вилл семнадцатилетний юноша убил кухонным ножом своего младшего брата, затем отца и, наконец, мать. Тройное убийство, совершенное за несколько минут мальчиком, которого все считали совершенно обычным и в совершенно обычный вечер, кажется загадочным. Мальчик не смог объяснить свой поступок; он сказал, что не знает, зачем он это сделал; он сказал, что у него не было никаких причин совершать то, что он совершил.
Не было никаких явных причин; это важно. Кажется, само понятие мотивации утратило свой смысл. В этом случае нет причины, которая предшествует поступку, причины, которая вырабатывается сознанием в определенных условиях, прежде чем совершить действие, столь сложное, столь экстремальное, чреватое последствиями.
Все чаще мы становимся свидетелями поступков, которые невозможно объяснить имеющимися у нас категориями. Мы продолжаем искать причины, но причины очевидны и не ясны одновременно: изоляция, одиночество, конкуренция, широко распространенное насилие в окружающей среде, в средствах массовой информации, повсюду.
Мне важно подчеркнуть, что психологические категории, с помощью которых мы объясняем функционирование человеческого сознания, больше не соответствуют реальности, сформированной технически измененной средой. Когнитивные модальности (восприятие, вербализация, идеация, реализация, последовательность действий) претерпели мутацию, и хронологическая последовательность имеет тенденцию нарушаться, путаться. Именно эту мутацию и необходимо проанализировать.
Маршалл Маклюэн в работе «Понимание медиа» (1964) пишет, что когда разум формируется в электронной среде, а не в алфавитной, за последовательностью следует одновременность, а рациональные способы когнитивного действия заменяются мифологическими модальностями. Отсюда, по моему мнению, нам нужно начать, радикально переосмыслить поведение современного субъекта. Это не просто вопрос изучения психологических мотиваций, психологических травм и т.д. Это вопрос углубления, разработки нового неврологического инструментария и признания того, что мутация включает когнитивные модальности: воображение, язык, память, идеацию, переход к действию.
В алфавитной коммуникативной среде, в контексте традиционной семьи, деревенской жизни или социализированной жизни в городе, ребенок учится языку по голосу матери или, по крайней мере, человека говорящего. Следовательно, когнитивная предрасположенность проявляется через последовательность стимулов и реакций, идеаций и реализаций. Но когда алфавитный порядок сменяется электронным, то скорость информационно-нейронного стимула сокращает время для идеационной подготовки действия. В видеоигре нет времени думать, а есть только моментальная реакция на стимул. Более того, когда за материнским обучением языку следует обучение, одобренное дереализующим техно-лингвистическим устройством, язык больше не имеет характера аффективной единичности, и источник действия имеет тенденцию терять представление о его физических последствиях: в видеоигре маленькие зеленые человечки, которых вы устраняете, нажимая кнопку, являются бестелесной сущностью; они никогда не умирают, или если умирают, то немедленно встают.
Мгновенность и виртуальность: эти две реконфигурации отношений между представлением и поступком изменили когнитивное функционирование настолько радикально, что поведение наших собратьев-людей (сходное до определенной точки) имеет тенденцию казаться нам все более и более необъяснимым. Нам нужно понять, что это за когнитивная мутация, которая в конечном итоге структурировала психокогнитивную модель, несовместимую с моделями, доступными психологической науке.
Конечно, я начинаю здесь с теоретико-методологической предпосылки, сильно отличающейся от хомскианской, которая долгое время господствовала в области когнитивной психологии, а также лингвистики. Я не верю, что существуют врожденные структуры сознания; я не верю, что существует естественная когнитивная установка. Но здесь не место подробно останавливаться на этих тезисах. Я ограничиваюсь наблюдением, что структурный когнитивизм игнорирует связь между техно-коммуникативной средой и формированием когнитивных структур, но эта связь проявляется сегодня с беспрецедентной силой.
Технологическая трансформация изменила коммуникативную среду до такой степени, что нарушила фундаментальные модальности психогенеза. Появилось поколение, которое усвоило больше слов благодаря машине, чем благодаря голосу человека, и которое приобрело свои когнитивные навыки в среде, где поступок лишен физических последствий. Мы должны предположить, что это поколение утратило представление о физических последствиях своего поведения, которое реализуется не на экране прибора, а на кухне и в спальне, или в школе, или в любом другом физическом пространстве.
Существует целая феноменология такого рода необъяснимых актов. Я бы сказал, что мы наблюдаем эффекты сокращения времени ментальной обработки (мгновенность, стимул, реакция) и эффекты десенсибилизации к физическим последствиям (виртуальность воспринимаемого опыта). Эти две реконфигурации восприятия или проекции реальности реконфигурируют ментальную проекцию самого акта.
Существует целая феноменология такого рода необъяснимых актов. Я бы сказал, что мы наблюдаем эффекты сокращения времени ментальной обработки (мгновенность, стимул, реакция) и эффекты десенсибилизации к физическим последствиям (виртуальность воспринимаемого опыта). Эти две реконфигурации восприятия или проекции реальности реконфигурируют ментальную проекцию самого акта.
В 1919 году Шандор Ференци, общаясь с немецким журналистом, сказал, что психоанализ не обладает инструментами для лечения массового психоза и его объяснения. Даже в политике не было таких инструментов, и мы можем повторить эти слова сегодня, сто лет спустя.
Что означает массовый психоз? Приведенная выше цитата Делеза и Гваттари приближает нас к пониманию значения слова «психоз»: когда мысль ускользает от самой себя, когда мотивы поступков нельзя выявить последовательностях ментальной обработки. Когда все начинает происходить слишком быстро для того, чтобы мы могли понимать, что творится и поступать соответственно.
Поколение, выросшее в среде, где информационо-нейронная стимуляция является сверхбыстрой, безусловно, развивает способность быстрее обрабатывать стимулы, которые берутся из единой электронной среды. Но быстрый метод обработки как раз и основан на устранении тех интеллектуальных усилий, которые замедляют человеческую способность реагировать и действовать: эмоции и разум.
Следовательно, поступки имеют тенденцию становиться лишенными как эмоциональной глубины, так и рациональной мотивации.
Психология тоже, кажется, не подходит для объяснения того, что происходит с современным общественным сознанием и коллективным поведением. Все чаще случаются эпизоды, которые психологическая наука не в состоянии объяснить с помощью имеющихся в ее распоряжении диагностических инструментов. Эпизоды, которые сигнализируют о глубокой мутации в поведении, мутации, которая влияет не только на психическую динамику, но и, возможно, на способы когнитивной обработки. Вспомните об (все более частых) актах разрушительного насилия, совершаемых очень молодыми людьми.
Падерно-Дуньяно — город в провинции Милан состоит из вилл, населенных средним классом. В начале сентября на одной из таких вилл семнадцатилетний юноша убил кухонным ножом своего младшего брата, затем отца и, наконец, мать. Тройное убийство, совершенное за несколько минут мальчиком, которого все считали совершенно обычным и в совершенно обычный вечер, кажется загадочным. Мальчик не смог объяснить свой поступок; он сказал, что не знает, зачем он это сделал; он сказал, что у него не было никаких причин совершать то, что он совершил.
Не было никаких явных причин; это важно. Кажется, само понятие мотивации утратило свой смысл. В этом случае нет причины, которая предшествует поступку, причины, которая вырабатывается сознанием в определенных условиях, прежде чем совершить действие, столь сложное, столь экстремальное, чреватое последствиями.
Все чаще мы становимся свидетелями поступков, которые невозможно объяснить имеющимися у нас категориями. Мы продолжаем искать причины, но причины очевидны и не ясны одновременно: изоляция, одиночество, конкуренция, широко распространенное насилие в окружающей среде, в средствах массовой информации, повсюду.
Мне важно подчеркнуть, что психологические категории, с помощью которых мы объясняем функционирование человеческого сознания, больше не соответствуют реальности, сформированной технически измененной средой. Когнитивные модальности (восприятие, вербализация, идеация, реализация, последовательность действий) претерпели мутацию, и хронологическая последовательность имеет тенденцию нарушаться, путаться. Именно эту мутацию и необходимо проанализировать.
Маршалл Маклюэн в работе «Понимание медиа» (1964) пишет, что когда разум формируется в электронной среде, а не в алфавитной, за последовательностью следует одновременность, а рациональные способы когнитивного действия заменяются мифологическими модальностями. Отсюда, по моему мнению, нам нужно начать, радикально переосмыслить поведение современного субъекта. Это не просто вопрос изучения психологических мотиваций, психологических травм и т.д. Это вопрос углубления, разработки нового неврологического инструментария и признания того, что мутация включает когнитивные модальности: воображение, язык, память, идеацию, переход к действию.
В алфавитной коммуникативной среде, в контексте традиционной семьи, деревенской жизни или социализированной жизни в городе, ребенок учится языку по голосу матери или, по крайней мере, человека говорящего. Следовательно, когнитивная предрасположенность проявляется через последовательность стимулов и реакций, идеаций и реализаций. Но когда алфавитный порядок сменяется электронным, то скорость информационно-нейронного стимула сокращает время для идеационной подготовки действия. В видеоигре нет времени думать, а есть только моментальная реакция на стимул. Более того, когда за материнским обучением языку следует обучение, одобренное дереализующим техно-лингвистическим устройством, язык больше не имеет характера аффективной единичности, и источник действия имеет тенденцию терять представление о его физических последствиях: в видеоигре маленькие зеленые человечки, которых вы устраняете, нажимая кнопку, являются бестелесной сущностью; они никогда не умирают, или если умирают, то немедленно встают.
Мгновенность и виртуальность: эти две реконфигурации отношений между представлением и поступком изменили когнитивное функционирование настолько радикально, что поведение наших собратьев-людей (сходное до определенной точки) имеет тенденцию казаться нам все более и более необъяснимым. Нам нужно понять, что это за когнитивная мутация, которая в конечном итоге структурировала психокогнитивную модель, несовместимую с моделями, доступными психологической науке.
Конечно, я начинаю здесь с теоретико-методологической предпосылки, сильно отличающейся от хомскианской, которая долгое время господствовала в области когнитивной психологии, а также лингвистики. Я не верю, что существуют врожденные структуры сознания; я не верю, что существует естественная когнитивная установка. Но здесь не место подробно останавливаться на этих тезисах. Я ограничиваюсь наблюдением, что структурный когнитивизм игнорирует связь между техно-коммуникативной средой и формированием когнитивных структур, но эта связь проявляется сегодня с беспрецедентной силой.
Технологическая трансформация изменила коммуникативную среду до такой степени, что нарушила фундаментальные модальности психогенеза. Появилось поколение, которое усвоило больше слов благодаря машине, чем благодаря голосу человека, и которое приобрело свои когнитивные навыки в среде, где поступок лишен физических последствий. Мы должны предположить, что это поколение утратило представление о физических последствиях своего поведения, которое реализуется не на экране прибора, а на кухне и в спальне, или в школе, или в любом другом физическом пространстве.
Существует целая феноменология такого рода необъяснимых актов. Я бы сказал, что мы наблюдаем эффекты сокращения времени ментальной обработки (мгновенность, стимул, реакция) и эффекты десенсибилизации к физическим последствиям (виртуальность воспринимаемого опыта). Эти две реконфигурации восприятия или проекции реальности реконфигурируют ментальную проекцию самого акта.
Существует целая феноменология такого рода необъяснимых актов. Я бы сказал, что мы наблюдаем эффекты сокращения времени ментальной обработки (мгновенность, стимул, реакция) и эффекты десенсибилизации к физическим последствиям (виртуальность воспринимаемого опыта). Эти две реконфигурации восприятия или проекции реальности реконфигурируют ментальную проекцию самого акта.


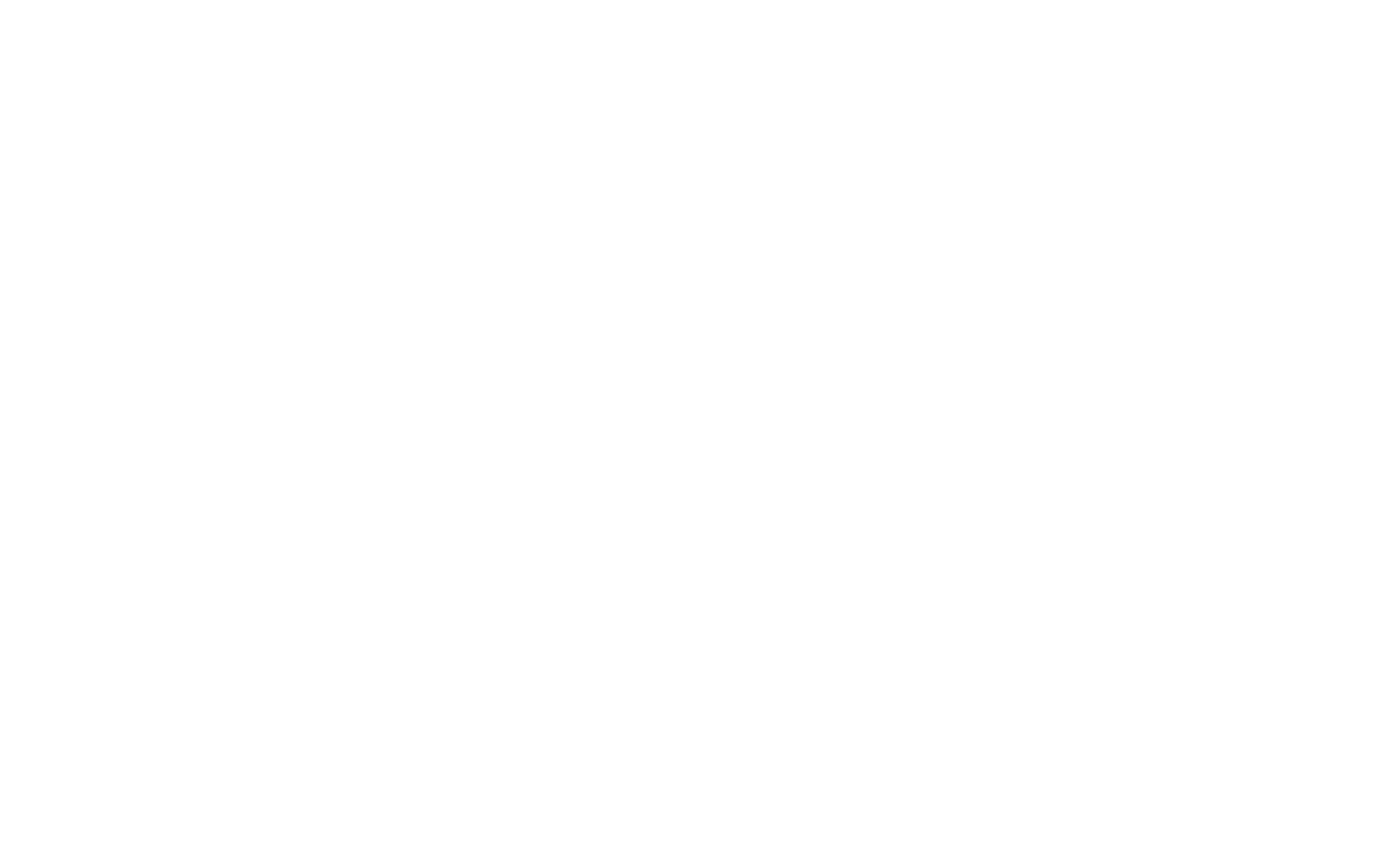
Зрителю предлагается отправить голосовое или текстовое сообщение перформеру в телеграм-бот, ответ перформера на полученное сообщение будет опубликован на следующий день - данными колебания пульса. Продолжительность перформанса составит 4 месяца, траектория колебаний пульса будет фиксироватьсяа в графике.
Авторы перформанса инициируют эксперимент, в рамках которого цифровая коммуникация пропускается через биологическую и эмоциональную реакцию перформера. В перформансе рассматириваются лингвистические и психофизиологические реакции зрителя и перформера. В ходе перформанса фокус смещен на связанные с поведением и взаимодействием людей автоматизмы коммуникации. Важно, какое содержание сообщения выберет зритель, чтобы получить реакцию художника? Меняется ли смысл сообщений, когда участники эксперимента осознают, что непосредственно оказывают влияние, вызывая телесный отклик и эмоции человека? Понимают, что можно управлять этим процессом. Какие сообщения будут превалировать: негативные или поддерживающие? Что за тип коммуникационной среды возникнет в этих условиях? И как ткань этой коммуникации отражает время?
Авторы перформанса инициируют эксперимент, в рамках которого цифровая коммуникация пропускается через биологическую и эмоциональную реакцию перформера. В перформансе рассматириваются лингвистические и психофизиологические реакции зрителя и перформера. В ходе перформанса фокус смещен на связанные с поведением и взаимодействием людей автоматизмы коммуникации. Важно, какое содержание сообщения выберет зритель, чтобы получить реакцию художника? Меняется ли смысл сообщений, когда участники эксперимента осознают, что непосредственно оказывают влияние, вызывая телесный отклик и эмоции человека? Понимают, что можно управлять этим процессом. Какие сообщения будут превалировать: негативные или поддерживающие? Что за тип коммуникационной среды возникнет в этих условиях? И как ткань этой коммуникации отражает время?