Группа "Гнездо". Акция "Поедание" 1978
Поедание. Чтобы понять внутреннюю сущность вещей, они должны стать вашей частью
– поедание рубля;
– поедание репродукции картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»;
– поедание таракана;
– поедание тиражной копии скульптуры Вучетича «Перекуем мечи на орала»;
Серия акций проводилась в квартире Михаила Рошаля на улице Дмитрия Ульянова, Москва. Документация Валентина Серова
Поедание. Чтобы понять внутреннюю сущность вещей, они должны стать вашей частью
– поедание рубля;
– поедание репродукции картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»;
– поедание таракана;
– поедание тиражной копии скульптуры Вучетича «Перекуем мечи на орала»;
Серия акций проводилась в квартире Михаила Рошаля на улице Дмитрия Ульянова, Москва. Документация Валентина Серова






Группа "Гнездо". Акция "Гипнотизирование холста" 1978

Группа СЗ. Теоретический курс защиты и самообороны от вещей (Мастер Захаров обрезает струю распоясавшегося крана) 1981. Черно-белая фотография. Папка МАНИ No2, конверт No35

(Виктор Скерсис. Книга. 1978 год.
Надпись: "К – это книга. Книга – это такая штука, которая раскрывается.
Н – это нитка.
И – это иголки.
Г – это гореть. Гореть прерывисто блистать.
А – это аромат. Аромат – это от чего ноздри раздуваются.
Эта работа непонятна мне самому, но создается впечатление,
что она построена на ошибках.")
Надпись: "К – это книга. Книга – это такая штука, которая раскрывается.
Н – это нитка.
И – это иголки.
Г – это гореть. Гореть прерывисто блистать.
А – это аромат. Аромат – это от чего ноздри раздуваются.
Эта работа непонятна мне самому, но создается впечатление,
что она построена на ошибках.")

Группа "Мухомор". Роман-холодильник. 1982
Этот объект первоначально не мог даже и претендовать на статус произведения искусства. Он провел долгую и нелегкую жизнь в качестве бытового холодильника и в конце концов был приговорен к почетному перемещению на помойку. Но однажды Звездочетов начертал на боку агрегата заключенную в неряшливую виньетку фразу «В настоящее время я работаю над созданием романа "Мухомор". Москва, 1982». «Мухомор» — веселая и буйная группа художников, поставившая своей задачей растворить искусство в жизни и покончить с социальным эскапизмом и навязчивой эзотерикой старших концептуалистов. В соответствии с этими далеко идущими замыслами и пришедший в негодность предмет бытовой техники начал превращаться во что-то совсем иное. «Роман», который постепенно возникална стенках (снаружи и внутри) холодильника, был исполнен в стиле лубочной литературы XIX века и посвящен похождениям некоего маркиза Кукина. Вследствие недостатка места как будто написанный рукой школьника- троечника текст приобрел стихийную интерактивность — в начертанном на внешней поверх- ности повествовании содержались ссылки на коробочки с текстами, маленькие картиночки и другие предметы, сложенные самым затейливым образом внутри холодильника. Так что в полном объеме прочитать этот «роман» мог только человек, готовый посвятить несколько часов разворачиванию бумажек, на которых содержались отсылки к следующим объектам и текстам. В 1982 году «Роман-холодильник» предстал в однокомнатной квартире на улице Вавилова, которую художник Никита Алексеев превратил в «первую в СССР галерею», названную АПТ-АРТ. В настоящее время «Холодильник» располагается в экспозиции Отдела новейших течений Третьяковки. Но воспринять его во всей полноте зритель не может. Во-первых, музейные правила строго запрещают «трогать руками». Во-вторых, почти все тексты из внутренностей агрегата были изъяты КГБ во время обыска.
Этот объект первоначально не мог даже и претендовать на статус произведения искусства. Он провел долгую и нелегкую жизнь в качестве бытового холодильника и в конце концов был приговорен к почетному перемещению на помойку. Но однажды Звездочетов начертал на боку агрегата заключенную в неряшливую виньетку фразу «В настоящее время я работаю над созданием романа "Мухомор". Москва, 1982». «Мухомор» — веселая и буйная группа художников, поставившая своей задачей растворить искусство в жизни и покончить с социальным эскапизмом и навязчивой эзотерикой старших концептуалистов. В соответствии с этими далеко идущими замыслами и пришедший в негодность предмет бытовой техники начал превращаться во что-то совсем иное. «Роман», который постепенно возникална стенках (снаружи и внутри) холодильника, был исполнен в стиле лубочной литературы XIX века и посвящен похождениям некоего маркиза Кукина. Вследствие недостатка места как будто написанный рукой школьника- троечника текст приобрел стихийную интерактивность — в начертанном на внешней поверх- ности повествовании содержались ссылки на коробочки с текстами, маленькие картиночки и другие предметы, сложенные самым затейливым образом внутри холодильника. Так что в полном объеме прочитать этот «роман» мог только человек, готовый посвятить несколько часов разворачиванию бумажек, на которых содержались отсылки к следующим объектам и текстам. В 1982 году «Роман-холодильник» предстал в однокомнатной квартире на улице Вавилова, которую художник Никита Алексеев превратил в «первую в СССР галерею», названную АПТ-АРТ. В настоящее время «Холодильник» располагается в экспозиции Отдела новейших течений Третьяковки. Но воспринять его во всей полноте зритель не может. Во-первых, музейные правила строго запрещают «трогать руками». Во-вторых, почти все тексты из внутренностей агрегата были изъяты КГБ во время обыска.

Илья Кабаков:
Надо сказать, что в Москве жанры были довольно многообразны. Cюда надо включить работу с "культурным" мусором: делал "книги жизни", "мусорные романы" . Потом – имитацию деятельности советского художника, халтуршика, раба ЖЭКа и идеологии. Делались ширмы, стенды. А также как бы от имени среднего советского мещанина делались книжки и альбомы с наклеенными фотографиями ("В нашем ЖЭКе"). Эти «персонажи» делали их в свое свободное от работы время. Сюда надо отнести и жанр стенда. Стенды исполнялись на оргалите и должны были якобы висеть в ЖЭКе. Когда ко мне приходили какие-нибудь комиссии типа пожарной, все понимали, что человек работает на общественную потребу. Простые советские люди сразу узнавали этого "автора". Никакой мазни, никаких ужасов абстракционизма там не было. Добротная, тщательно изготовленная жэковская продукция. ("Каталог" М.Эпштейн, И.Кабаков, 2010)
Надо сказать, что в Москве жанры были довольно многообразны. Cюда надо включить работу с "культурным" мусором: делал "книги жизни", "мусорные романы" . Потом – имитацию деятельности советского художника, халтуршика, раба ЖЭКа и идеологии. Делались ширмы, стенды. А также как бы от имени среднего советского мещанина делались книжки и альбомы с наклеенными фотографиями ("В нашем ЖЭКе"). Эти «персонажи» делали их в свое свободное от работы время. Сюда надо отнести и жанр стенда. Стенды исполнялись на оргалите и должны были якобы висеть в ЖЭКе. Когда ко мне приходили какие-нибудь комиссии типа пожарной, все понимали, что человек работает на общественную потребу. Простые советские люди сразу узнавали этого "автора". Никакой мазни, никаких ужасов абстракционизма там не было. Добротная, тщательно изготовленная жэковская продукция. ("Каталог" М.Эпштейн, И.Кабаков, 2010)

Все вещи, которые нас окружают, по моему представлению, - ״плохие"
именно в этом ״скульптурном" смысле. Они только отчасти имеют вид и
функции чашек, телевизоров, стульев, трамваев, домов и т.д., но большей
частью они принадлежат к тому безглазому, бессловесному и безобразно-
му ״ничто", тому хаосу, которое насквозь проникает, пропитывает все, что
нас окружает. Это ״ничто" во много раз целостнее, плотнее, активнее,
значимее, чем то, что из него хочет выделиться, что ему противостоит.
Оно, это ״ничто" смеется над каждым предметом, справедливо видя в нем
мизерность, а также случайность, временность этих ״предметов", будь они
хоть прочны как железо или огромны как города. Оно, это ״ничто" представляет постоянство всего безвидного, но зато цельного и могучего ״материкового" состояния.
У нас вещь соотносится не с вещью же, а со стоящим за всем и всепроницаемым общим интегралом - общей мусорной кучей, куда неизбежно вернется все, что недолгое время пыталось из нее вырваться, назвав себя стаканом, трубой, домом и т.д. Лучшим примером этого короткого появления и нового погружения является образ ״стройки-помойки", где строительство, то есть сопротивление, избавление оказызаются иллюзорными и уже в самом ״строительстве" присутствует разрушение, развал, исчезновение в первоначальном хаосе-небытии.
Это же я чувствовал, когда стал делать свои вещи-картины, которые в
окончательном результате должны были полностью сохранять эту двойственность. С одной стороны,״вещь" должна была что-то говорить, намекать на какие-то связи, чем-то казаться (картиной, сюжетом, анекдотом, вообще смыслом), а с другой - полностью уплывать в безликое целостное нечто или ничто, вместе с другими предметами комнаты, где она находится: стенами, стульями, пальто, столами и пр.; принадлежа к их жалкому временному семейству; она должна лишь минуту что-то говорить нам, точнее, нам должно казаться, что она ״ говорит", но ее постоянное уплывание - вместе с ними, предметами быта, в общую тоскливую кучу мусора и пыли.
Эта постоянная двойственность - мерцающая, мгновенная ״кажимость", случайность и необязательность, и перманентная бессмысленная безвидность - и составляет суть того, что я называю ״плохой вещью". ״Плохой вещью", разумеется, в художественном смысле. Поскольку я убежден, что произведение искусства в ряду других вещей не может быть окончательно завершено, что оно открыто в обе стороны, имеет как бы два ״окна": в сторону свободной и необязательной интерпретации смысла, благодаря которому оно вообще появилось на свет, а также в сторону растворения этого произведения в общем огромном резервуаре бессмысленной, молчаливой и вечно ко всему готовой материи. (Кабаков. "60-е 70-е Записки о неофициальной жизни в Москве", 1999)
именно в этом ״скульптурном" смысле. Они только отчасти имеют вид и
функции чашек, телевизоров, стульев, трамваев, домов и т.д., но большей
частью они принадлежат к тому безглазому, бессловесному и безобразно-
му ״ничто", тому хаосу, которое насквозь проникает, пропитывает все, что
нас окружает. Это ״ничто" во много раз целостнее, плотнее, активнее,
значимее, чем то, что из него хочет выделиться, что ему противостоит.
Оно, это ״ничто" смеется над каждым предметом, справедливо видя в нем
мизерность, а также случайность, временность этих ״предметов", будь они
хоть прочны как железо или огромны как города. Оно, это ״ничто" представляет постоянство всего безвидного, но зато цельного и могучего ״материкового" состояния.
У нас вещь соотносится не с вещью же, а со стоящим за всем и всепроницаемым общим интегралом - общей мусорной кучей, куда неизбежно вернется все, что недолгое время пыталось из нее вырваться, назвав себя стаканом, трубой, домом и т.д. Лучшим примером этого короткого появления и нового погружения является образ ״стройки-помойки", где строительство, то есть сопротивление, избавление оказызаются иллюзорными и уже в самом ״строительстве" присутствует разрушение, развал, исчезновение в первоначальном хаосе-небытии.
Это же я чувствовал, когда стал делать свои вещи-картины, которые в
окончательном результате должны были полностью сохранять эту двойственность. С одной стороны,״вещь" должна была что-то говорить, намекать на какие-то связи, чем-то казаться (картиной, сюжетом, анекдотом, вообще смыслом), а с другой - полностью уплывать в безликое целостное нечто или ничто, вместе с другими предметами комнаты, где она находится: стенами, стульями, пальто, столами и пр.; принадлежа к их жалкому временному семейству; она должна лишь минуту что-то говорить нам, точнее, нам должно казаться, что она ״ говорит", но ее постоянное уплывание - вместе с ними, предметами быта, в общую тоскливую кучу мусора и пыли.
Эта постоянная двойственность - мерцающая, мгновенная ״кажимость", случайность и необязательность, и перманентная бессмысленная безвидность - и составляет суть того, что я называю ״плохой вещью". ״Плохой вещью", разумеется, в художественном смысле. Поскольку я убежден, что произведение искусства в ряду других вещей не может быть окончательно завершено, что оно открыто в обе стороны, имеет как бы два ״окна": в сторону свободной и необязательной интерпретации смысла, благодаря которому оно вообще появилось на свет, а также в сторону растворения этого произведения в общем огромном резервуаре бессмысленной, молчаливой и вечно ко всему готовой материи. (Кабаков. "60-е 70-е Записки о неофициальной жизни в Москве", 1999)


Андрей Монастырский "Кепка" 1983
(Объект представляет собой серую матерчатую кепку с тряпичной пуговицей на ее макушке. К пуговице приделана полоска бумаги с надписью "ПОДНЯТЬ". Кепка должна лежать на столе или лучше - на скульптурной тумбе. Когда зритель поднимает кепку (за пуговицу) под ней обнаруживается надпись (на бумажном листе): "ПОЛОЖИТЬ МОЖНО, ПОНЯТЬ НЕЛЬЗЯ".)
(Объект представляет собой серую матерчатую кепку с тряпичной пуговицей на ее макушке. К пуговице приделана полоска бумаги с надписью "ПОДНЯТЬ". Кепка должна лежать на столе или лучше - на скульптурной тумбе. Когда зритель поднимает кепку (за пуговицу) под ней обнаруживается надпись (на бумажном листе): "ПОЛОЖИТЬ МОЖНО, ПОНЯТЬ НЕЛЬЗЯ".)
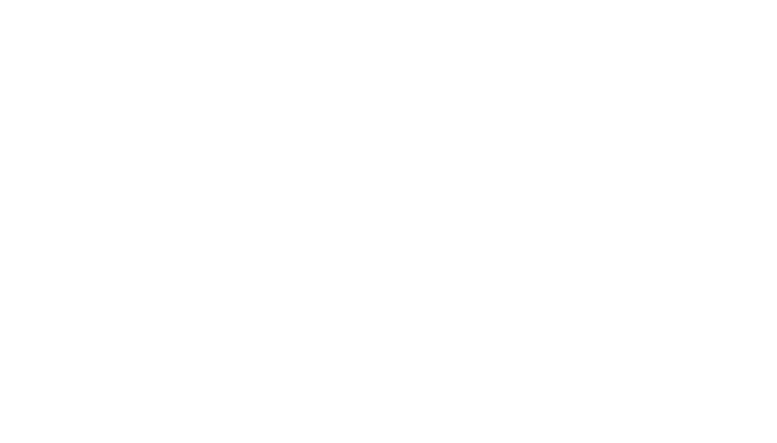
Андрей Монастырский "ГЕТЕ" 2007
(Инсталляция представляет собой два белых щита (160 х 200 см. каждый). На первом щите расположена кнопка с надписью под ней, предлагающей посетителю выставки нажать кнопку. Этот щит находится где-то в начале выставки, в первом или втором залах, среди других работ. При нажатии на кнопку ничего не происходит.
Второй щит расположен в конце экспозиции, в последнем или предпоследнем залах, также среди других работ выставки. На том месте, где на первом щите была кнопка, на этом щите, по кругу (наподобии старых радиоприемников) проделаны дырочки, из которых иногда раздается звук электрического звонка. Там, под щитом, укреплен электрический звонок, связанный с кнопкой на первом щите проводом (провод расположен по плинтусам залов и не бросается в глаза посетителям).
Таким образом посетитель, который не получил никакого результата при нажатии на кнопку на первом щите, возможно, услышит звук звонка, находясь в зале со вторым щитом, если другой посетитель в это время нажмет кнопку на первом щите.
Около первого и второго щита висят одинаковые этикетки с названием инсталляции: «ГЕТЕ».
Эта работа придумана мной в 1976 году и не была реализована.
Тема этой работы – причинно-следственные отношения в пространственно-временном континууме, в истории. Она сконструирована в эпоху «современности», но таким образом, что услышать ее можно только через какое-то время: само ВРЕМЯ является пластикой, носителем ее содержания. Человек нажимает кнопку и ничего не происходит. Он идет через залы (пространство), проходит какое-то время и на таком же эстетическом поле (одинаковость двух щитов) получает результат своего усилия (нажатия на звонок) в виде звучания этого звонка, причиной которого являются уже другие люди (другие посетители, нажимающие в это время кнопку). По ходу своего знакомства с выставкой он может забыть о своем контакте с первым щитом. Но в случае, если возникнет звучание на втором щите, он может припомнить это свое действие, получив сначала чисто эмоциональное впечатление и некоторое непонимание, но потом, именно через платоновское и хайдеггеровское Припоминание эстетически осознать ситуацию этой работы. Осознать то, что после того, как он нажал, казалось бы, безрезультатно, эту кнопку, он включил само время и пространство этой работы в целом, включил в нее других зрителей, которые нажмут эту кнопку после него, и в то время, когда он ходил по выставке, эта инсталляция работала, ее структура непрерывно действовала, он находился внутри этой работы, и только с помощью других людей осознал это.
У Гете было два периода творчества – романтический («Страдания молодого Вертера») и классический («Фауст» и т.д.). Романтизм в момент его переживания, реализации чаще всего бывает безрезультатен, страдателен и раздражителен (как наш первый щит с кнопкой, при нажатии на которую ничего не происходит). Но именно усилия романтизма в перспективе порождают люфт истории, наполняющий пространство жизни между исходной точкой пути (романтизмом) и целью, вершиной классицизма, местом экзистенциального понимания и эстетического переживания движения по этому пути (у нашего второго щита со звонком) и себя в прошлом, и других в настоящем.
Documenta 12, Кассель. 2007)
(Инсталляция представляет собой два белых щита (160 х 200 см. каждый). На первом щите расположена кнопка с надписью под ней, предлагающей посетителю выставки нажать кнопку. Этот щит находится где-то в начале выставки, в первом или втором залах, среди других работ. При нажатии на кнопку ничего не происходит.
Второй щит расположен в конце экспозиции, в последнем или предпоследнем залах, также среди других работ выставки. На том месте, где на первом щите была кнопка, на этом щите, по кругу (наподобии старых радиоприемников) проделаны дырочки, из которых иногда раздается звук электрического звонка. Там, под щитом, укреплен электрический звонок, связанный с кнопкой на первом щите проводом (провод расположен по плинтусам залов и не бросается в глаза посетителям).
Таким образом посетитель, который не получил никакого результата при нажатии на кнопку на первом щите, возможно, услышит звук звонка, находясь в зале со вторым щитом, если другой посетитель в это время нажмет кнопку на первом щите.
Около первого и второго щита висят одинаковые этикетки с названием инсталляции: «ГЕТЕ».
Эта работа придумана мной в 1976 году и не была реализована.
Тема этой работы – причинно-следственные отношения в пространственно-временном континууме, в истории. Она сконструирована в эпоху «современности», но таким образом, что услышать ее можно только через какое-то время: само ВРЕМЯ является пластикой, носителем ее содержания. Человек нажимает кнопку и ничего не происходит. Он идет через залы (пространство), проходит какое-то время и на таком же эстетическом поле (одинаковость двух щитов) получает результат своего усилия (нажатия на звонок) в виде звучания этого звонка, причиной которого являются уже другие люди (другие посетители, нажимающие в это время кнопку). По ходу своего знакомства с выставкой он может забыть о своем контакте с первым щитом. Но в случае, если возникнет звучание на втором щите, он может припомнить это свое действие, получив сначала чисто эмоциональное впечатление и некоторое непонимание, но потом, именно через платоновское и хайдеггеровское Припоминание эстетически осознать ситуацию этой работы. Осознать то, что после того, как он нажал, казалось бы, безрезультатно, эту кнопку, он включил само время и пространство этой работы в целом, включил в нее других зрителей, которые нажмут эту кнопку после него, и в то время, когда он ходил по выставке, эта инсталляция работала, ее структура непрерывно действовала, он находился внутри этой работы, и только с помощью других людей осознал это.
У Гете было два периода творчества – романтический («Страдания молодого Вертера») и классический («Фауст» и т.д.). Романтизм в момент его переживания, реализации чаще всего бывает безрезультатен, страдателен и раздражителен (как наш первый щит с кнопкой, при нажатии на которую ничего не происходит). Но именно усилия романтизма в перспективе порождают люфт истории, наполняющий пространство жизни между исходной точкой пути (романтизмом) и целью, вершиной классицизма, местом экзистенциального понимания и эстетического переживания движения по этому пути (у нашего второго щита со звонком) и себя в прошлом, и других в настоящем.
Documenta 12, Кассель. 2007)

П.П. На второй выставке Клуба Авангардистов в июне 1988 года мы выставили работу, которая называлась "Книга за книгой". Она представляла собой несколько книг, стоящих вертикально одна за другой таким образом, что промежутки между ними были шире, чем толщина самих книг. По внешним опознавательным знакам это очень неоригинальный и неинтересный реди-мейд. Но эти знаки есть как бы суперобложка, то, чем книга заявляет о себе. В данном случае она заявляет о себе "нехудожественно", "неправильно". Такая суперобложка есть скорее "минус-заявление", позволяющее ей указать на то, что заявляющей о себе является не книга, а как раз пространство между книгами. Под видом артефакта мы выстроили "литературный прием", положенный в основу составления Пустотного канона Ортодоксальной избушки. Текст пишется на поверхности другого текста, вследствие чего сквозь одну книгу "просвечивает" множество других.
С.А. Интерпретировать же пустоты между книгами как онтологическую "пустоту" представляется самонадеянным. Дефинированно мы ничего не можем сказать о "пустоте", однако, по мере продвижения к ней наш язык, наш дискурс должен восприниматься в качестве одной сплошной (тотальной) оговорки.
П.П. Действительно, важнее всего то, что для нас совершенно неизвестно: а именно, как текст соотносится со своим контекстом и связаны ли вообще книги, стоящие одна за другой?
В. Т. Любопытно, что "то, что для нас совершенно неизвестно", важнее всего и для Жана-Франсуа Лиотара, в чьей книге La Condition Postmoderne говорится о "воле к неизвестному", свидетелями которого (а в вашей терминологии — инспекторами) французский философ приглашает нас быть. "Неизвестное" — в известном смысле — провинциализм: в нем есть что-то от "огней большого города", от того, о чем мечтают юноши и девушки из периферийных районов. Но без этого — маргиналия оставалась бы маргиналией, метрополия — метрополией, что привело бы к невозможности обновления культуры, ее де-центрирования, де-территориализации и т.п. Зная (из разговоров с вами), что ваша цель — выйти за пределы постмодернистской эпистемы, хотелось бы убедиться, действительно ли позиции медгерменев-тов отличаются от взглядов теоретиков постмодернизма. Впрочем, это, по всей видимости, тема для другого разговора, другой инспекции...
С.А. Интерпретировать же пустоты между книгами как онтологическую "пустоту" представляется самонадеянным. Дефинированно мы ничего не можем сказать о "пустоте", однако, по мере продвижения к ней наш язык, наш дискурс должен восприниматься в качестве одной сплошной (тотальной) оговорки.
П.П. Действительно, важнее всего то, что для нас совершенно неизвестно: а именно, как текст соотносится со своим контекстом и связаны ли вообще книги, стоящие одна за другой?
В. Т. Любопытно, что "то, что для нас совершенно неизвестно", важнее всего и для Жана-Франсуа Лиотара, в чьей книге La Condition Postmoderne говорится о "воле к неизвестному", свидетелями которого (а в вашей терминологии — инспекторами) французский философ приглашает нас быть. "Неизвестное" — в известном смысле — провинциализм: в нем есть что-то от "огней большого города", от того, о чем мечтают юноши и девушки из периферийных районов. Но без этого — маргиналия оставалась бы маргиналией, метрополия — метрополией, что привело бы к невозможности обновления культуры, ее де-центрирования, де-территориализации и т.п. Зная (из разговоров с вами), что ваша цель — выйти за пределы постмодернистской эпистемы, хотелось бы убедиться, действительно ли позиции медгерменев-тов отличаются от взглядов теоретиков постмодернизма. Впрочем, это, по всей видимости, тема для другого разговора, другой инспекции...
Для концептуализма принципиально важно то, что на языке "медгерменевтов" обозначается как "пустотный канон", что предполагает философскую аксиоматику пустого центра. Иначе говоря, концептуализм исходит из представления о симулятивной (игровой и фиктивной) природе претензий всякого (мета)нарратива на означение истины. То, что начинается в конце 1960-х как критика идеологии, по преимуществу советской, и связанной с ней мифологии (соц-арт), уже в 1980-е вырастает в глобальную эстетическую философию отсутствия (или пустоты) и деконструкцию любых "трансцендентальных означаемых". По формулировке Пригова, "я исходил из того, что любой язык может стать советской властью. (…) Я понял, что любой язык, который стремится к господству, поражается раковой опухолью власти. (…) Я отстаиваю возможность не подчиняться никаким тотальным идеям и идеологиям. Любой взгляд претендует на истинность, моя задача – вскрыть любой взгляд не как истину, а как тип конвенциональности". Наиболее насыщенная характеристика пустого центра была предложена Ильей Кабаковым в трактате "О пустоте", включенном в инсталляцию "Муха с крыльями":
Гигантский резервуар, объем пустоты, о которой идет речь и которая представляет "наше место", совсем не является пустотой, пустым местом в европейском значении этого слова. (…) Пустота, о которой я говорю, - это не нуль, не простое "ничего", "пустота", о которой идет речь, - это не нулевая, нейтрально заряженная, пассивная граница. Cовсем нет. "Пустота" потрясающе активна, ее активность равна активности положительного бытия… С такой же неистребимой активностью, силой и постоянством пустота "живет", превращая бытие в свою противоположность, строительство – разрушая, реальность – мистифицируя, все превращается в прах и пустоту. Она, повторяю, есть переведение активного бытия в активное небытие… Она прилипла. Срослась, сосет бытие, ее могучая липкая, тошнотворная интинергия взята из переведения в себя, подобно вампиризму, энергии, которую пустота отнимает, вынимает из окружающего ее бытия. ( …) Пустота и есть другая, противоположная сторона всякого вопроса, всегдашнее "нет" подо всем большим и малым, целым и каждым, разумным и безумным, всем, что не может назвать и что имеет смысл и имя.
Вот эта пустота реально обитает, расположилась на месте, где мы живем, от Брно до Тихого океана.
Важно при этом отметить, что отожествление пустоты с Россией и вообще страх пустоты, как, впрочем, и противопоставление пустоты чему-то "подлинному" и "положительному", специфичны скорее для Кабакова, чем для концептуализма в целом. Для русских концептуалистов в целом более характерны амбивалентное отношение к пустому центру как к манифестации смерти и хаоса и одновременно – как к источнику свободы и означающему "неизвестное". (…)
Концептуализм, по мнению М.Эпштейна, в качестве основного приема использует устранение – утрируя автоматическое восприятие стереотипов и клишированных идей, он "стирает" всякую "идейность", оставляя в итоге "значимое зияние, просветленную пустоту":
Вот почему в концептуализме есть нечто родственное буддизму или дзен-буддизму: некая реальность обнаруживает свою иллюзорность, призрачность и уступает место восприятию самой пустоты. Концептуализм – царство разнообразно поданных мнимостей, мелко надоедливых пустяков, за которыми открывается одна большая притягивающая пустота.
Концептуализм разрабатывает центробежную версию модели "пустой центр/итерации": в нем пустота на месте "трансцендентального означаемого" (правды, цели, смысла бытия и истины искусства) становится источником многочисленных квазисакральных ритуалов, в которых текстуальные аспекты неразделимо сплетаются с визуальным и перформативным. Именно ритуалы пустого центра образуют (в силу необходимой для ритуала повторяемости) важнейший, хотя и не единственный, тип концептуалистской итерации.
Точнее всего существо этих текстуальных и перформативных ритуалов описывается через восходящую к Мишелю Фуко концепцию трансгрессии, которая "предполагает не сплошное отрицание, но утверждение, которое утверждает ничто – радикальный разрыв транзитивности. Не отрицание всех ценностей, а испытание их границ и пределов. (…) Испытывать в этом контексте значит доводить предмет испытания до пустого ядра, где бытие достигает своего предела и где предел определяет бытие. (…) Акт нарушения пределов обязательно дотягивается до отсутствия"
В любом случае, однако, ритуалы, разыгрываемые в концептуалистских произведениях, непременно строятся как взрывная апория, обусловленная прежде всего конфликтом между означающим и означаемым. В сущности, каждый из концептуалистских ритуалов строится на мерцающем и неразрешимом конфликте сакрального и профанного. Серьезность ритуальных жестов, интонаций, ролей, риторических и символических цитат и т.п. неизменно вступает в противоречие с предполагаемым или непосредственно перелагаемым отсутствием или же ничтожностью смысла всего происходящего или демонстрируемого – иными словами, с пустотой. Ведь именно "это соприкосновение, близость, касание, вообще – контакт с ничем, с пустотой и составляет… основную особенность "русского концептуализма".
Гигантский резервуар, объем пустоты, о которой идет речь и которая представляет "наше место", совсем не является пустотой, пустым местом в европейском значении этого слова. (…) Пустота, о которой я говорю, - это не нуль, не простое "ничего", "пустота", о которой идет речь, - это не нулевая, нейтрально заряженная, пассивная граница. Cовсем нет. "Пустота" потрясающе активна, ее активность равна активности положительного бытия… С такой же неистребимой активностью, силой и постоянством пустота "живет", превращая бытие в свою противоположность, строительство – разрушая, реальность – мистифицируя, все превращается в прах и пустоту. Она, повторяю, есть переведение активного бытия в активное небытие… Она прилипла. Срослась, сосет бытие, ее могучая липкая, тошнотворная интинергия взята из переведения в себя, подобно вампиризму, энергии, которую пустота отнимает, вынимает из окружающего ее бытия. ( …) Пустота и есть другая, противоположная сторона всякого вопроса, всегдашнее "нет" подо всем большим и малым, целым и каждым, разумным и безумным, всем, что не может назвать и что имеет смысл и имя.
Вот эта пустота реально обитает, расположилась на месте, где мы живем, от Брно до Тихого океана.
Важно при этом отметить, что отожествление пустоты с Россией и вообще страх пустоты, как, впрочем, и противопоставление пустоты чему-то "подлинному" и "положительному", специфичны скорее для Кабакова, чем для концептуализма в целом. Для русских концептуалистов в целом более характерны амбивалентное отношение к пустому центру как к манифестации смерти и хаоса и одновременно – как к источнику свободы и означающему "неизвестное". (…)
Концептуализм, по мнению М.Эпштейна, в качестве основного приема использует устранение – утрируя автоматическое восприятие стереотипов и клишированных идей, он "стирает" всякую "идейность", оставляя в итоге "значимое зияние, просветленную пустоту":
Вот почему в концептуализме есть нечто родственное буддизму или дзен-буддизму: некая реальность обнаруживает свою иллюзорность, призрачность и уступает место восприятию самой пустоты. Концептуализм – царство разнообразно поданных мнимостей, мелко надоедливых пустяков, за которыми открывается одна большая притягивающая пустота.
Концептуализм разрабатывает центробежную версию модели "пустой центр/итерации": в нем пустота на месте "трансцендентального означаемого" (правды, цели, смысла бытия и истины искусства) становится источником многочисленных квазисакральных ритуалов, в которых текстуальные аспекты неразделимо сплетаются с визуальным и перформативным. Именно ритуалы пустого центра образуют (в силу необходимой для ритуала повторяемости) важнейший, хотя и не единственный, тип концептуалистской итерации.
Точнее всего существо этих текстуальных и перформативных ритуалов описывается через восходящую к Мишелю Фуко концепцию трансгрессии, которая "предполагает не сплошное отрицание, но утверждение, которое утверждает ничто – радикальный разрыв транзитивности. Не отрицание всех ценностей, а испытание их границ и пределов. (…) Испытывать в этом контексте значит доводить предмет испытания до пустого ядра, где бытие достигает своего предела и где предел определяет бытие. (…) Акт нарушения пределов обязательно дотягивается до отсутствия"
В любом случае, однако, ритуалы, разыгрываемые в концептуалистских произведениях, непременно строятся как взрывная апория, обусловленная прежде всего конфликтом между означающим и означаемым. В сущности, каждый из концептуалистских ритуалов строится на мерцающем и неразрешимом конфликте сакрального и профанного. Серьезность ритуальных жестов, интонаций, ролей, риторических и символических цитат и т.п. неизменно вступает в противоречие с предполагаемым или непосредственно перелагаемым отсутствием или же ничтожностью смысла всего происходящего или демонстрируемого – иными словами, с пустотой. Ведь именно "это соприкосновение, близость, касание, вообще – контакт с ничем, с пустотой и составляет… основную особенность "русского концептуализма".
Каталог супер объектов для суперлюдей.

ОВИОРЛИ
ОВИОРЛИ оберегает ваш голос от внешних вмешательств! Отключите Дегамунизирующий Шум Современной Цивилизации с помощью деревянного ОВИОРЛИ! Владелец ОВИОРЛИ слышит лишь священную музыку СОБСТВЕННЫХ мыслей. Мягко, но надежно закупоривают ушные отверстия.
ОВИОРЛИ оберегает ваш голос от внешних вмешательств! Отключите Дегамунизирующий Шум Современной Цивилизации с помощью деревянного ОВИОРЛИ! Владелец ОВИОРЛИ слышит лишь священную музыку СОБСТВЕННЫХ мыслей. Мягко, но надежно закупоривают ушные отверстия.

БУФТ
Движение, которому чужды пределы! Вырезанный из цельного куска баобаба, БУФТ-78 объединяет ваше сознание, ваши передние конечности и шею в единое Целое!
Движение, которому чужды пределы! Вырезанный из цельного куска баобаба, БУФТ-78 объединяет ваше сознание, ваши передние конечности и шею в единое Целое!

КЬЮРГОЛ-16
Уникальная установка для отращивания ногтей на ногах. В контейнере из полированного черного дерева серебряный термолегулятор и передняя панель обеспечивают микроклимат, необходимый для органического синтеза рогового вещества. Необъяснимые ощущения роста ногтей поможет по-новому взглянуть на течение исторического времени!
Уникальная установка для отращивания ногтей на ногах. В контейнере из полированного черного дерева серебряный термолегулятор и передняя панель обеспечивают микроклимат, необходимый для органического синтеза рогового вещества. Необъяснимые ощущения роста ногтей поможет по-новому взглянуть на течение исторического времени!


