
...«Трем образцам для штопки», более ранней работе Дюшана, для создания которой он бросал три нитки, каждая длиной один метр, с метровой высоты и фиксировал случайную конфигурацию каждой; затем по ним были вырезаны шаблоны, служившие весьма странными «линейками», поскольку все три имели разные профили и в итоге разную длину. По сравнению с ремесленным подходом к случайности в этой работе, «клапаны» в «Новобрачной» носили в большей степени механический характер, напоминающий о затворе камеры и фотографической печати.
Но «Три образца для штопки» подчеркивают тот момент, что индекс - уникальный след или результат какого-то действия или, как здесь, случайного события - в качестве «сообщения без кода» сопротивляется языку. Ведь язык зависит от своих знаков (например, слов), повторяющихся множество раз и при этом сохраняющих стабильность. Пусть конкретный контекст меняет коннотации или даже значение (означаемое) слова - его форма (означающее) при этом остается неизменной во всех случаях его употребления. Это даже более очевидно в случае с единицами измерения - такими, как метр или фут, - в которых и означающее, и означаемое должны оставаться постоянными независимо от контекста. Таким образом, иронически дестандартизированные линейки Дюшана, от случая к случаю меняющие свою длину, не поддаются кодированию, придающему измерению его точность и его значение.
Индекс, коль скоро он представляет собой след некоего события, может быть результатом случайности, как в случае с деформациями, зафиксированными в «Большом стекле» в виде «Воздушных клапанов». О «Трех образцах для штопки» Дюшан прямо говорит как о «консервированном случае». Но случай несовместим с традиционным представлением о композиции, со стремлением художника создавать свое произведение шаг за шагом. А отменяя композицию, установка на случайность одновременно аннулирует идею особого профессионализма, мастерства, которая всегда ассоциировалась с самим словом «художник». Используя случайность, Дюшан выбирает метод, куда более напоминающий слоган фирмы «Кодак»: «Вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное» (и даже превосходит его в плане радикальности), который одновременно механизирует создание произведения (художник уподобляется фотокамере и, таким образом, обезличивается) и депрофессионализирует его(никакие инструменты, даже камера,тут не нужны).
Другая дюшановская заметка из «Зеленой коробки», под названием «Спецификация для реди-мейдов», сводит вместе случайность, фотографию и языковую пустоту. В ней определяется, что реди-мейдом будет любой объект, на который художник натолкнется в некий им заранее определенный момент. Эта встреча, или столкновение, сравнивается с фотоснимком (индексальной записью события), но вдобавок говорится, что это «Напоминает речь, произносимую не к месту, но в строго определенное время», то есть некое беспредметное языковое событие, механическая не уместность которого делает его бессмысленным.
В этом контексте становится понятен конечный смысл дюшановского перехода от иконического к индексальному знаку. Помимо отказа от «рисования» и отрицания «профессионализма», помимо смещения значения от повторяемого кода к единичному событию, индекс в качестве шифтера имеет определенные последствия для статуса субъекта - того, кто говорит «Я», то есть в данном случае «самого» Дюшана.
Подлинность и аура, сопряженные с оригиналом, оказываются тем самым структурно изъяты из объекта, произведенного механически, который, как указывает Беньямин, «заменяет уникальное явление множеством копий». Если подобное явление можно охарактеризовать как привязанное к месту и времени своего происхождения и, следовательно, как психологически удаленное от зри теля, то механическая репродукция преодолевает эту дистанцию. Она утоляет «Неодолимую потребность овладеть предметом в непосредственной близости через его образ». Механическая репродукция, таким образом, пробуждает соответствующее психологическое влечение вместе с присущим ему способом зрения: «Освобождение предмета от его оболочки. разрушение его ауры - характерная черта восприятия. чей "вкус к однотипному в мире" усилился настолько, что оно с помощью репродукции выжимает эту однотипность даже из уникальных явлений». Таким образом, сериализация производства (базиса) постепенно влечет за собой сериализацию зрения, а та в свою очередь порождает желание сериализации самого произведения искусства (надстройки). Переходя от способа производства к «Потребительной ценности», Беньямин заключает: «Репродуцируемое произведение искусства чем дальше, тем больше становится произведением искусства, рассчитанным на репродуцируемость. Множество художников, чьи работы сознательно или неосознанно а были «рассчитаны на репродуцируемость» (от Дюшана до Уорхола и далее)подтверждает пророчество Беньямина о том, что изменение способа производства изображений уничтожит все прежние эстетические ценности. «Немало умственных сил впустую ушло на то, чтобы решить, является ли фотография искусством, - пишет он. - Но так и не был поднят более существенный вопрос: не изменилась ли с изобретением фотографии вся природа искусства?»
По мнению Беньямина, аура есть у некоторых фотографий, в то время как даже картины Рембрандта в эпоху технической воспроизводимости ее утрачивают. Например, когда мы стоим в Лувре перед "Моной Лизой", то понимаем, что не можем почувствовать ауру этой картины.
Реди-мейды Дюшана, конечно, воплощают мысль о том, что художник ничего не творит, что он лишь использует, манипулирует, замещает, переосмысляет то, что предоставила история. Это не лишает художника власти вмешиваться в дискурс, изменять или расширять его, но он должен отказаться от иллюзии, что эта власть проистекает из автономного "я", существующего вне истории и идеологии. Реди-мейды предполагают, что художник не может создать – он может лишь взять то, что уже есть.
Но «Три образца для штопки» подчеркивают тот момент, что индекс - уникальный след или результат какого-то действия или, как здесь, случайного события - в качестве «сообщения без кода» сопротивляется языку. Ведь язык зависит от своих знаков (например, слов), повторяющихся множество раз и при этом сохраняющих стабильность. Пусть конкретный контекст меняет коннотации или даже значение (означаемое) слова - его форма (означающее) при этом остается неизменной во всех случаях его употребления. Это даже более очевидно в случае с единицами измерения - такими, как метр или фут, - в которых и означающее, и означаемое должны оставаться постоянными независимо от контекста. Таким образом, иронически дестандартизированные линейки Дюшана, от случая к случаю меняющие свою длину, не поддаются кодированию, придающему измерению его точность и его значение.
Индекс, коль скоро он представляет собой след некоего события, может быть результатом случайности, как в случае с деформациями, зафиксированными в «Большом стекле» в виде «Воздушных клапанов». О «Трех образцах для штопки» Дюшан прямо говорит как о «консервированном случае». Но случай несовместим с традиционным представлением о композиции, со стремлением художника создавать свое произведение шаг за шагом. А отменяя композицию, установка на случайность одновременно аннулирует идею особого профессионализма, мастерства, которая всегда ассоциировалась с самим словом «художник». Используя случайность, Дюшан выбирает метод, куда более напоминающий слоган фирмы «Кодак»: «Вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное» (и даже превосходит его в плане радикальности), который одновременно механизирует создание произведения (художник уподобляется фотокамере и, таким образом, обезличивается) и депрофессионализирует его(никакие инструменты, даже камера,тут не нужны).
Другая дюшановская заметка из «Зеленой коробки», под названием «Спецификация для реди-мейдов», сводит вместе случайность, фотографию и языковую пустоту. В ней определяется, что реди-мейдом будет любой объект, на который художник натолкнется в некий им заранее определенный момент. Эта встреча, или столкновение, сравнивается с фотоснимком (индексальной записью события), но вдобавок говорится, что это «Напоминает речь, произносимую не к месту, но в строго определенное время», то есть некое беспредметное языковое событие, механическая не уместность которого делает его бессмысленным.
В этом контексте становится понятен конечный смысл дюшановского перехода от иконического к индексальному знаку. Помимо отказа от «рисования» и отрицания «профессионализма», помимо смещения значения от повторяемого кода к единичному событию, индекс в качестве шифтера имеет определенные последствия для статуса субъекта - того, кто говорит «Я», то есть в данном случае «самого» Дюшана.
Подлинность и аура, сопряженные с оригиналом, оказываются тем самым структурно изъяты из объекта, произведенного механически, который, как указывает Беньямин, «заменяет уникальное явление множеством копий». Если подобное явление можно охарактеризовать как привязанное к месту и времени своего происхождения и, следовательно, как психологически удаленное от зри теля, то механическая репродукция преодолевает эту дистанцию. Она утоляет «Неодолимую потребность овладеть предметом в непосредственной близости через его образ». Механическая репродукция, таким образом, пробуждает соответствующее психологическое влечение вместе с присущим ему способом зрения: «Освобождение предмета от его оболочки. разрушение его ауры - характерная черта восприятия. чей "вкус к однотипному в мире" усилился настолько, что оно с помощью репродукции выжимает эту однотипность даже из уникальных явлений». Таким образом, сериализация производства (базиса) постепенно влечет за собой сериализацию зрения, а та в свою очередь порождает желание сериализации самого произведения искусства (надстройки). Переходя от способа производства к «Потребительной ценности», Беньямин заключает: «Репродуцируемое произведение искусства чем дальше, тем больше становится произведением искусства, рассчитанным на репродуцируемость. Множество художников, чьи работы сознательно или неосознанно а были «рассчитаны на репродуцируемость» (от Дюшана до Уорхола и далее)подтверждает пророчество Беньямина о том, что изменение способа производства изображений уничтожит все прежние эстетические ценности. «Немало умственных сил впустую ушло на то, чтобы решить, является ли фотография искусством, - пишет он. - Но так и не был поднят более существенный вопрос: не изменилась ли с изобретением фотографии вся природа искусства?»
По мнению Беньямина, аура есть у некоторых фотографий, в то время как даже картины Рембрандта в эпоху технической воспроизводимости ее утрачивают. Например, когда мы стоим в Лувре перед "Моной Лизой", то понимаем, что не можем почувствовать ауру этой картины.
Реди-мейды Дюшана, конечно, воплощают мысль о том, что художник ничего не творит, что он лишь использует, манипулирует, замещает, переосмысляет то, что предоставила история. Это не лишает художника власти вмешиваться в дискурс, изменять или расширять его, но он должен отказаться от иллюзии, что эта власть проистекает из автономного "я", существующего вне истории и идеологии. Реди-мейды предполагают, что художник не может создать – он может лишь взять то, что уже есть.
НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ В ФОТОГРАФИИ
Мел Бохнер стал работать с фотографией, когда она занимала маргинальную позицию в искусстве. И он взял фразу из энциклопедии о том, что фотография не может передать абстрактную идею и нашел лаконичную форму, которая опровергает эту фразу, поскольку то, что мы видим перед собой является фотографией с абстрактной идеей.
Мел Бохнер стал работать с фотографией, когда она занимала маргинальную позицию в искусстве. И он взял фразу из энциклопедии о том, что фотография не может передать абстрактную идею и нашел лаконичную форму, которая опровергает эту фразу, поскольку то, что мы видим перед собой является фотографией с абстрактной идеей.

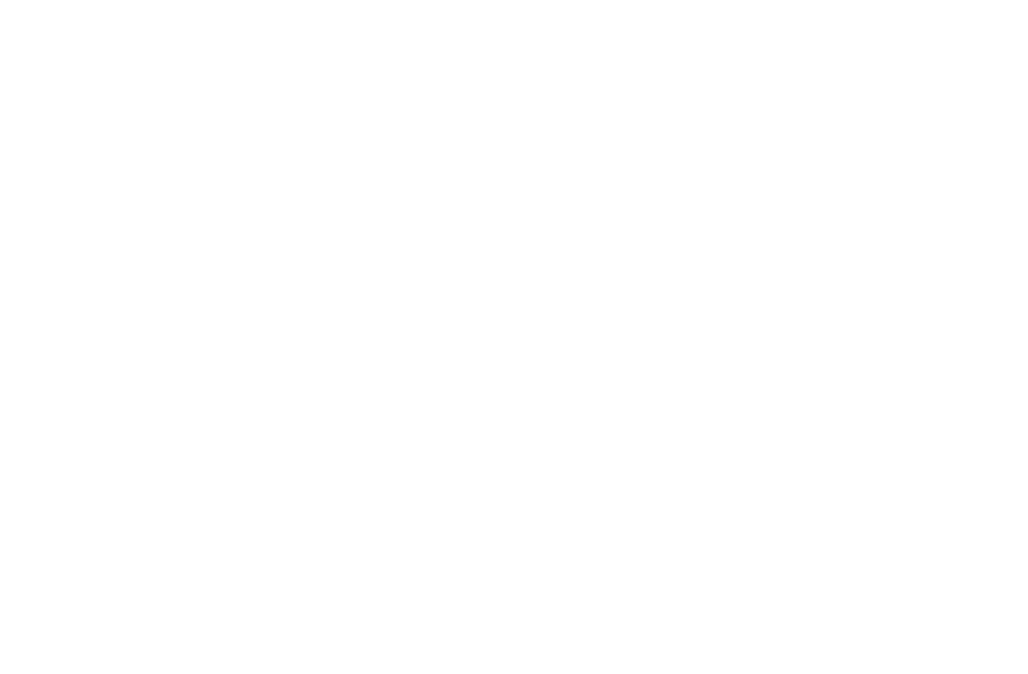

В конце 1960-х, как и многие другие концептуалисты, Бохнер увлекся изучением речи и математики, используя в художественных работах минимум художественных средств. В это время была создана одна из самых успешных его серий Measurement. Вдохновила на ее создание обыкновенная миллиметровая бумага, которую любил использовать художник.
Measurement
На стене в мастерской висели два листа, на которые он смотрел, не зная, что нарисовать. «Внезапно я увидел пространство между ними. Я увидел, что это такой же объект, как и сама бумага. Измерив это расстояние, я начертил его на стене… Когда я убрал листы, у меня остался лишь измеренный отрезок». Измерения настолько увлекли Бохнера, что вскоре среди его работ появились «чертежи» самой бумаги, растений, геометрических фигур и целого зала галереи в Мюнхене.Выглядят работы невероятно просто – для их создания нужны лишь черный скотч или чернила и собственно объект измерения.
Measurement
На стене в мастерской висели два листа, на которые он смотрел, не зная, что нарисовать. «Внезапно я увидел пространство между ними. Я увидел, что это такой же объект, как и сама бумага. Измерив это расстояние, я начертил его на стене… Когда я убрал листы, у меня остался лишь измеренный отрезок». Измерения настолько увлекли Бохнера, что вскоре среди его работ появились «чертежи» самой бумаги, растений, геометрических фигур и целого зала галереи в Мюнхене.Выглядят работы невероятно просто – для их создания нужны лишь черный скотч или чернила и собственно объект измерения.
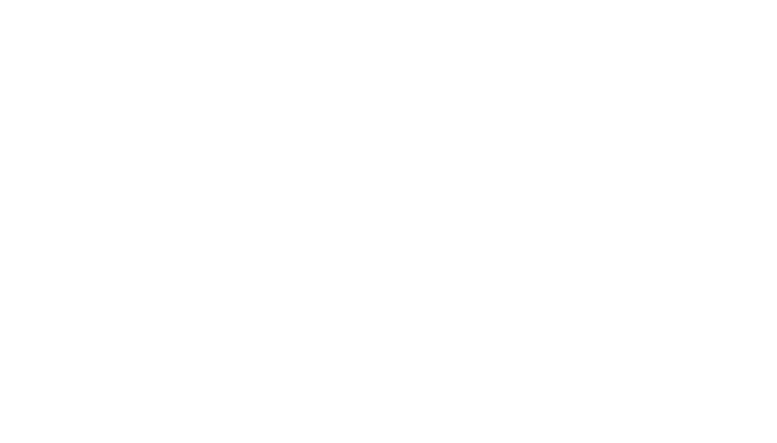
Андрей Монастырский "ГЕТЕ" 2007
(Инсталляция представляет собой два белых щита (160 х 200 см. каждый). На первом щите расположена кнопка с надписью под ней, предлагающей посетителю выставки нажать кнопку. Этот щит находится где-то в начале выставки, в первом или втором залах, среди других работ. При нажатии на кнопку ничего не происходит.
Второй щит расположен в конце экспозиции, в последнем или предпоследнем залах, также среди других работ выставки. На том месте, где на первом щите была кнопка, на этом щите, по кругу (наподобии старых радиоприемников) проделаны дырочки, из которых иногда раздается звук электрического звонка. Там, под щитом, укреплен электрический звонок, связанный с кнопкой на первом щите проводом (провод расположен по плинтусам залов и не бросается в глаза посетителям).
Таким образом посетитель, который не получил никакого результата при нажатии на кнопку на первом щите, возможно, услышит звук звонка, находясь в зале со вторым щитом, если другой посетитель в это время нажмет кнопку на первом щите.
Около первого и второго щита висят одинаковые этикетки с названием инсталляции: «ГЕТЕ».
Эта работа придумана мной в 1976 году и не была реализована.
Тема этой работы – причинно-следственные отношения в пространственно-временном континууме, в истории. Она сконструирована в эпоху «современности», но таким образом, что услышать ее можно только через какое-то время: само ВРЕМЯ является пластикой, носителем ее содержания. Человек нажимает кнопку и ничего не происходит. Он идет через залы (пространство), проходит какое-то время и на таком же эстетическом поле (одинаковость двух щитов) получает результат своего усилия (нажатия на звонок) в виде звучания этого звонка, причиной которого являются уже другие люди (другие посетители, нажимающие в это время кнопку). По ходу своего знакомства с выставкой он может забыть о своем контакте с первым щитом. Но в случае, если возникнет звучание на втором щите, он может припомнить это свое действие, получив сначала чисто эмоциональное впечатление и некоторое непонимание, но потом, именно через платоновское и хайдеггеровское Припоминание эстетически осознать ситуацию этой работы. Осознать то, что после того, как он нажал, казалось бы, безрезультатно, эту кнопку, он включил само время и пространство этой работы в целом, включил в нее других зрителей, которые нажмут эту кнопку после него, и в то время, когда он ходил по выставке, эта инсталляция работала, ее структура непрерывно действовала, он находился внутри этой работы, и только с помощью других людей осознал это.
У Гете было два периода творчества – романтический («Страдания молодого Вертера») и классический («Фауст» и т.д.). Романтизм в момент его переживания, реализации чаще всего бывает безрезультатен, страдателен и раздражителен (как наш первый щит с кнопкой, при нажатии на которую ничего не происходит). Но именно усилия романтизма в перспективе порождают люфт истории, наполняющий пространство жизни между исходной точкой пути (романтизмом) и целью, вершиной классицизма, местом экзистенциального понимания и эстетического переживания движения по этому пути (у нашего второго щита со звонком) и себя в прошлом, и других в настоящем.
Documenta 12, Кассель. 2007)
(Инсталляция представляет собой два белых щита (160 х 200 см. каждый). На первом щите расположена кнопка с надписью под ней, предлагающей посетителю выставки нажать кнопку. Этот щит находится где-то в начале выставки, в первом или втором залах, среди других работ. При нажатии на кнопку ничего не происходит.
Второй щит расположен в конце экспозиции, в последнем или предпоследнем залах, также среди других работ выставки. На том месте, где на первом щите была кнопка, на этом щите, по кругу (наподобии старых радиоприемников) проделаны дырочки, из которых иногда раздается звук электрического звонка. Там, под щитом, укреплен электрический звонок, связанный с кнопкой на первом щите проводом (провод расположен по плинтусам залов и не бросается в глаза посетителям).
Таким образом посетитель, который не получил никакого результата при нажатии на кнопку на первом щите, возможно, услышит звук звонка, находясь в зале со вторым щитом, если другой посетитель в это время нажмет кнопку на первом щите.
Около первого и второго щита висят одинаковые этикетки с названием инсталляции: «ГЕТЕ».
Эта работа придумана мной в 1976 году и не была реализована.
Тема этой работы – причинно-следственные отношения в пространственно-временном континууме, в истории. Она сконструирована в эпоху «современности», но таким образом, что услышать ее можно только через какое-то время: само ВРЕМЯ является пластикой, носителем ее содержания. Человек нажимает кнопку и ничего не происходит. Он идет через залы (пространство), проходит какое-то время и на таком же эстетическом поле (одинаковость двух щитов) получает результат своего усилия (нажатия на звонок) в виде звучания этого звонка, причиной которого являются уже другие люди (другие посетители, нажимающие в это время кнопку). По ходу своего знакомства с выставкой он может забыть о своем контакте с первым щитом. Но в случае, если возникнет звучание на втором щите, он может припомнить это свое действие, получив сначала чисто эмоциональное впечатление и некоторое непонимание, но потом, именно через платоновское и хайдеггеровское Припоминание эстетически осознать ситуацию этой работы. Осознать то, что после того, как он нажал, казалось бы, безрезультатно, эту кнопку, он включил само время и пространство этой работы в целом, включил в нее других зрителей, которые нажмут эту кнопку после него, и в то время, когда он ходил по выставке, эта инсталляция работала, ее структура непрерывно действовала, он находился внутри этой работы, и только с помощью других людей осознал это.
У Гете было два периода творчества – романтический («Страдания молодого Вертера») и классический («Фауст» и т.д.). Романтизм в момент его переживания, реализации чаще всего бывает безрезультатен, страдателен и раздражителен (как наш первый щит с кнопкой, при нажатии на которую ничего не происходит). Но именно усилия романтизма в перспективе порождают люфт истории, наполняющий пространство жизни между исходной точкой пути (романтизмом) и целью, вершиной классицизма, местом экзистенциального понимания и эстетического переживания движения по этому пути (у нашего второго щита со звонком) и себя в прошлом, и других в настоящем.
Documenta 12, Кассель. 2007)
Концептуальное искусство обращается к идеям и значениям, и вопрос, сформулированный Марселем Дюшаном: "Можно ли создать произведение, которое не было-бы произведением искусства?" стал одной из точек отсчета в определении концептуального искусства. Как пишет Виктор Скерсис в книге "Аспекты Метаискусства": (начало цитаты) «Фундаментальный вопрос Дюшана (ФВД) из-за недостатка аналитического аппарата не нашёл в то время внятного ответа. Однако он поставил вопрос о концепции искусства как об аналитической дисциплине. Это позже позволило американскому художнику Джозефу Кошуту сказать: "Всё искусство после Дюшана -- концептуально!"
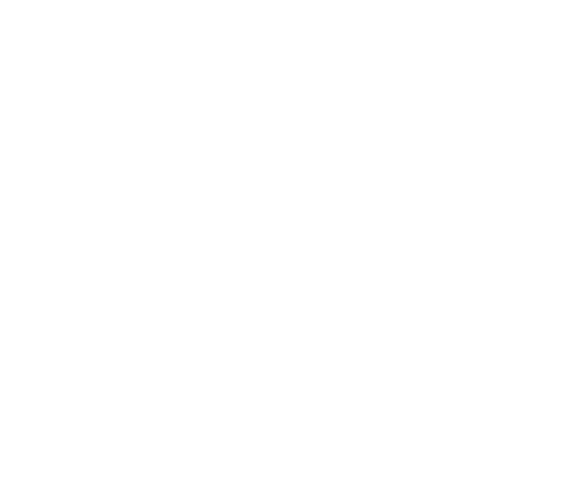
Статья "Искусство после философии" Джозефа Кошута (Кошут Дж. Искусство после философии // Вопросы искусствознания. 2001. - № 1. - С. 172.) (на английском - http://www.ubu.com/papers/kosuth_philosophy.html ) считается одним из программных произведений для всего концептуализма:
(начало статьи)
"Тот факт, что с недавних пор среди физиков стало модным проявлять сочувственное отношение к религии <...> отмечает недостаточную веру некоторых физиков в достоверность их собственных гипотез. Это - реакция физиков на антирелигиозный догматизм ученых XIX века и естественное следствие кризиса, недавно пережитого физикой" (А. Дж. Айер).
"...После прояснения смысла "Трактата" у читателя больше не будет искушения заниматься философией - ведь та и не эмпирична, как наука, и не тавтологична, как математика; подобно Витгенштейну в 1918 году надо забросить философию, поскольку она, как традиционно считается, построена на конфузии" (Дж. О.Армсон).
Традиционная философия, можно сказать, по определению, до недавних пор занималась несказанным. Почти исключительное внимание, каковое философы лингвистического анализа XX века уделяли высказанному, основано на разделяемом ими убеждении, что несказанное потому и несказанно, что оно непроизносимо. Гегелевская философия имела смысл только в XIX столетии - она, должно быть, казалась успокаивающей с точки зрения века, едва пережившего Юма, Просвещение и Канта. Философия Гегеля была также способна предоставить убежище тем, кто защищал религиозные убеждения, - она обеспечивала альтернативу ньютоновской механике и давала возможность роста исторических дисциплин (ведь она оправдывала даже дарвиновскую биологию). Кроме того, Гегель гарантировал удовлетворительное разрешение конфликта между теологией и наукой.
Результатом влияния Гегеля оказалось то, что большинство современных философов на самом деле весьма немногим отличаются от историков философии. Это своего рода библиотекари Истины. Складывается впечатление, что "сказать больше нечего". И если вспомнить следствия из аргументации Витгенштейна - равно как и все то, что возникло в мышлении под влиянием и после Витгенштейна, - о так называемой "континентальной" философии серьезно говорить не придется).
Существует ли причина "нереальности" философии в наше время? Вероятно, ответ на этот вопрос кроется в отличии нашего времени от предшествовавших столетий. В прошлом умозаключения человека основывались на той информации, каковую он получал об окружающем мире, - если и не обязательно так, как утверждали эмпирики, то, в общем, так, как представляли рационалисты. Подчас близость философии и науки была столь велика, что ученый и философ оказывались одной и той же персоной. В самом деле, со времен Фалеса, Эпикура, Гераклита и Аристотеля и до эпохи Декарта и Лейбница "великие имена в философии часто были и величинами в науке".
Тот факт, что картина мира, созданная наукой XX века, весьма отличается от представлений предыдущего столетия, не нуждается в доказательствах (по крайней мере здесь). Возможно ли, что теперь человек узнал столь много и интеллект его таков, что попросту не способен поверить в рассуждения традиционной философии? Может быть, он знает настолько много, что уже не может делать заключения традиционного типа? Как указал сэр Джеймс Джинс:
«... Когда философия воспользовалась достижениями науки, она не заимствовала абстрактное математическое описание последовательности событий, однако позаимствовала существовавшее на тот момент живописное описание такой последовательности; поэтому она присвоила не определенное знание, но определенные связи. Такие связи подчас были пригодны для соразмерной человеку модели мира; но они неприменимы к тем высшим процессам натуры, которые контролируют формирование человеческого мира и приближают нас к подлинной природе реальности».
Далее он продолжает:
«Одно следствие вышеуказанного развития заключалось в том, что стандарт философских дискуссий по многим проблемам - например, обсуждение причинности и свободы воли илиматериализма и ментализма, - основан на интерпретации последовательности событий, которая нас более не удовлетворяет. Научный базис всех этих старых дискуссий оказался размыт, причем с их исчезновением канули и все их аргументы...».
XX столетие открыло такое время, которое может быть названо «концом философии и началом искусства». Я имею в виду, конечно, не узкий смысл данного утверждения, но скорее тенденцию всей ситуации. Разумеется, лингвистическая философия может считаться наследницей эмпиризма, но все же это «философия с одним мотором». Разумеется, [еще] существует «определенное состояние искусства» - искусства до Дюшана, - но все его прочие функции, или причины существования (reasons-to-be), формулируются таким образом, что способность функционировать именно как искусство решительно ограничивает состояние искусства и последнее может быть самим собою лишь в минимальной степени. Связь между «концом философии» и «началом искусства» отнюдь не механическая, но мне подобное совпадение представляется все же не случайным. Поскольку одни и те же причины могут оказаться лежащими в основе обоих событий, я и констатирую такую связь. Все вышесказанное я привел для того, чтобы проанализировать функцию искусства, а впоследствии и его обоснованность. Делаю я это для того, чтобы позволить другим исследователям осознать аргументацию моего собственного искусства, а впоследствии и другого [подобного] искусства, и обеспечить более четкое понимание принятого [мною] термина «концептуальное искусство».
Функция искусства
«Основная причина, объясняющая незначительную роль живописи в настоящее время, заключается в том, что главные достижения в искусстве - не обязательно формальные достижения» (Дональд Джадд, 1963).
«Более половины из всего лучшего, что было создано за последние несколько лет, не относится ни к живописи, ни к скульптуре» (Дональд Джадд, 1965).
«В моей живописи нет ничего такого, чем обладает скульптура» (Дональд Джадд, 1967).
«Идея становится машиной, производящей искусство» (Сол ЛеВитт, 1967).
«Единственная вещь, которую можно сказать относительно искусства, - это то, что искусство есть единственная вещь. Искусство есть искусство как искусство, а что-то другое - это что-то другое. Искусство как искусство есть нечто, кроме искусства. Искусство не есть то, что не искусство» (Эд Рейнхардт, 1963).
«Смысл - это и есть польза» (Людвиг Витгенштейн).
«Более функциональный подход к изучению концепций имел тенденцию заменить собою метод интроспекции. Вместо того, чтобы пытаться ухватить или описать концепции, так сказать, нагишом, психолог исследует тот способ, каковым они функционируют как ингредиенты веры или Суждения» (Ирвинг М. Копи).
«Смысл всегда есть допущение функции» (Т. Сегерштедт).
«... Субъект концептуального исследования - это смысл определенных слов и выражений, а не сами по себе предметы или состояния дел, о которых мы говорим, используя данные слова и выражения» (Г. X. фон Райт).
«Мышление обладает радикальной метафоричностью. Связь по аналогии - вот его последовательный закон или принцип, его причинная сеть, поскольку смысл возникает только из случайных контекстов, где знак стоит (или занимает место) некоей инстанции. Думать о чем-то - значит воспринимать нечто как что-то (то или другое), и это «как» привносит (открыто или завуалировано) аналогию, параллель, метафорическую борьбу, или основание, или захват, или притяжение, и только посредством этого разум овладевает ситуацией. Последний не может овладеть ею, ежели нет ничего, к чему он смог бы прицепиться, - ведь все мышление и есть цеплянье, притяжение сходных вещей» (И. А. Ричардс).
В данном разделе я буду обсуждать разграничение между эстетикой и искусством, кратко рассмотрю формалистическое искусство (поскольку оно и есть главный защитник идеи эстетики как искусства), а также докажу, что искусство аналогично аналитическому предположению и что именно существование искусства как тавтологии позволяет ему не увязать в философских утверждениях.
Разделять эстетику и искусство необходимо потому, что эстетика занимается мнениями о восприятии мира вообще. В прошлом одним из ответвлений искусства была ценность последнего в качестве украшения [декорации]. Поэтому любая разновидность философии, имевшая дело с «красотой» (а следовательно, и со вкусом), неминуемо была вынуждена обсуждать и искусство. Из такой «привычки» возникло представление о наличии концептуальной связи искусства и эстетики, что не соответствует истине. До недавних пор подобная идея совсем не вступала в открытое столкновение с художественными суждениями - и не столько потому, что морфологические характеристики искусства способствовали постоянному повторению указанной ошибки, но и потому, что другие очевидные функции искусства (изображение религиозных тем, портретирование аристократов, детальный показ архитектуры и т. д.) использовали искусство, чтобы замаскировать искусство.
(начало статьи)
"Тот факт, что с недавних пор среди физиков стало модным проявлять сочувственное отношение к религии <...> отмечает недостаточную веру некоторых физиков в достоверность их собственных гипотез. Это - реакция физиков на антирелигиозный догматизм ученых XIX века и естественное следствие кризиса, недавно пережитого физикой" (А. Дж. Айер).
"...После прояснения смысла "Трактата" у читателя больше не будет искушения заниматься философией - ведь та и не эмпирична, как наука, и не тавтологична, как математика; подобно Витгенштейну в 1918 году надо забросить философию, поскольку она, как традиционно считается, построена на конфузии" (Дж. О.Армсон).
Традиционная философия, можно сказать, по определению, до недавних пор занималась несказанным. Почти исключительное внимание, каковое философы лингвистического анализа XX века уделяли высказанному, основано на разделяемом ими убеждении, что несказанное потому и несказанно, что оно непроизносимо. Гегелевская философия имела смысл только в XIX столетии - она, должно быть, казалась успокаивающей с точки зрения века, едва пережившего Юма, Просвещение и Канта. Философия Гегеля была также способна предоставить убежище тем, кто защищал религиозные убеждения, - она обеспечивала альтернативу ньютоновской механике и давала возможность роста исторических дисциплин (ведь она оправдывала даже дарвиновскую биологию). Кроме того, Гегель гарантировал удовлетворительное разрешение конфликта между теологией и наукой.
Результатом влияния Гегеля оказалось то, что большинство современных философов на самом деле весьма немногим отличаются от историков философии. Это своего рода библиотекари Истины. Складывается впечатление, что "сказать больше нечего". И если вспомнить следствия из аргументации Витгенштейна - равно как и все то, что возникло в мышлении под влиянием и после Витгенштейна, - о так называемой "континентальной" философии серьезно говорить не придется).
Существует ли причина "нереальности" философии в наше время? Вероятно, ответ на этот вопрос кроется в отличии нашего времени от предшествовавших столетий. В прошлом умозаключения человека основывались на той информации, каковую он получал об окружающем мире, - если и не обязательно так, как утверждали эмпирики, то, в общем, так, как представляли рационалисты. Подчас близость философии и науки была столь велика, что ученый и философ оказывались одной и той же персоной. В самом деле, со времен Фалеса, Эпикура, Гераклита и Аристотеля и до эпохи Декарта и Лейбница "великие имена в философии часто были и величинами в науке".
Тот факт, что картина мира, созданная наукой XX века, весьма отличается от представлений предыдущего столетия, не нуждается в доказательствах (по крайней мере здесь). Возможно ли, что теперь человек узнал столь много и интеллект его таков, что попросту не способен поверить в рассуждения традиционной философии? Может быть, он знает настолько много, что уже не может делать заключения традиционного типа? Как указал сэр Джеймс Джинс:
«... Когда философия воспользовалась достижениями науки, она не заимствовала абстрактное математическое описание последовательности событий, однако позаимствовала существовавшее на тот момент живописное описание такой последовательности; поэтому она присвоила не определенное знание, но определенные связи. Такие связи подчас были пригодны для соразмерной человеку модели мира; но они неприменимы к тем высшим процессам натуры, которые контролируют формирование человеческого мира и приближают нас к подлинной природе реальности».
Далее он продолжает:
«Одно следствие вышеуказанного развития заключалось в том, что стандарт философских дискуссий по многим проблемам - например, обсуждение причинности и свободы воли илиматериализма и ментализма, - основан на интерпретации последовательности событий, которая нас более не удовлетворяет. Научный базис всех этих старых дискуссий оказался размыт, причем с их исчезновением канули и все их аргументы...».
XX столетие открыло такое время, которое может быть названо «концом философии и началом искусства». Я имею в виду, конечно, не узкий смысл данного утверждения, но скорее тенденцию всей ситуации. Разумеется, лингвистическая философия может считаться наследницей эмпиризма, но все же это «философия с одним мотором». Разумеется, [еще] существует «определенное состояние искусства» - искусства до Дюшана, - но все его прочие функции, или причины существования (reasons-to-be), формулируются таким образом, что способность функционировать именно как искусство решительно ограничивает состояние искусства и последнее может быть самим собою лишь в минимальной степени. Связь между «концом философии» и «началом искусства» отнюдь не механическая, но мне подобное совпадение представляется все же не случайным. Поскольку одни и те же причины могут оказаться лежащими в основе обоих событий, я и констатирую такую связь. Все вышесказанное я привел для того, чтобы проанализировать функцию искусства, а впоследствии и его обоснованность. Делаю я это для того, чтобы позволить другим исследователям осознать аргументацию моего собственного искусства, а впоследствии и другого [подобного] искусства, и обеспечить более четкое понимание принятого [мною] термина «концептуальное искусство».
Функция искусства
«Основная причина, объясняющая незначительную роль живописи в настоящее время, заключается в том, что главные достижения в искусстве - не обязательно формальные достижения» (Дональд Джадд, 1963).
«Более половины из всего лучшего, что было создано за последние несколько лет, не относится ни к живописи, ни к скульптуре» (Дональд Джадд, 1965).
«В моей живописи нет ничего такого, чем обладает скульптура» (Дональд Джадд, 1967).
«Идея становится машиной, производящей искусство» (Сол ЛеВитт, 1967).
«Единственная вещь, которую можно сказать относительно искусства, - это то, что искусство есть единственная вещь. Искусство есть искусство как искусство, а что-то другое - это что-то другое. Искусство как искусство есть нечто, кроме искусства. Искусство не есть то, что не искусство» (Эд Рейнхардт, 1963).
«Смысл - это и есть польза» (Людвиг Витгенштейн).
«Более функциональный подход к изучению концепций имел тенденцию заменить собою метод интроспекции. Вместо того, чтобы пытаться ухватить или описать концепции, так сказать, нагишом, психолог исследует тот способ, каковым они функционируют как ингредиенты веры или Суждения» (Ирвинг М. Копи).
«Смысл всегда есть допущение функции» (Т. Сегерштедт).
«... Субъект концептуального исследования - это смысл определенных слов и выражений, а не сами по себе предметы или состояния дел, о которых мы говорим, используя данные слова и выражения» (Г. X. фон Райт).
«Мышление обладает радикальной метафоричностью. Связь по аналогии - вот его последовательный закон или принцип, его причинная сеть, поскольку смысл возникает только из случайных контекстов, где знак стоит (или занимает место) некоей инстанции. Думать о чем-то - значит воспринимать нечто как что-то (то или другое), и это «как» привносит (открыто или завуалировано) аналогию, параллель, метафорическую борьбу, или основание, или захват, или притяжение, и только посредством этого разум овладевает ситуацией. Последний не может овладеть ею, ежели нет ничего, к чему он смог бы прицепиться, - ведь все мышление и есть цеплянье, притяжение сходных вещей» (И. А. Ричардс).
В данном разделе я буду обсуждать разграничение между эстетикой и искусством, кратко рассмотрю формалистическое искусство (поскольку оно и есть главный защитник идеи эстетики как искусства), а также докажу, что искусство аналогично аналитическому предположению и что именно существование искусства как тавтологии позволяет ему не увязать в философских утверждениях.
Разделять эстетику и искусство необходимо потому, что эстетика занимается мнениями о восприятии мира вообще. В прошлом одним из ответвлений искусства была ценность последнего в качестве украшения [декорации]. Поэтому любая разновидность философии, имевшая дело с «красотой» (а следовательно, и со вкусом), неминуемо была вынуждена обсуждать и искусство. Из такой «привычки» возникло представление о наличии концептуальной связи искусства и эстетики, что не соответствует истине. До недавних пор подобная идея совсем не вступала в открытое столкновение с художественными суждениями - и не столько потому, что морфологические характеристики искусства способствовали постоянному повторению указанной ошибки, но и потому, что другие очевидные функции искусства (изображение религиозных тем, портретирование аристократов, детальный показ архитектуры и т. д.) использовали искусство, чтобы замаскировать искусство.
Ключевой концептуальный художник Сол Левитт в 1969 году опубликовал статью:
(Опубликовано впервые в «0-9» (Нью-Йорк), 1969, и «Art-Language» (Англия), 1969.
Перевод с английского Полины ЖУРАКОВСКОЙ
http://moscowartmagazine.com/issue/23/article/366)
(начало цитаты)
"В одном полученном мною от некоего редактора письме упоминалось, что он не склонен считать, что «художник – это своего рода обезьяна, поведение которой становится понятным лишь благодаря цивилизованному критику». Пожалуй, это хорошая новость и для художников, и для обезьян. Преисполненный такой уверенности, я надеюсь оправдать редакторские надежды. Воспользуюсь бейсбольной метафорой (если один художник предпочитает отбить мяч в поле, то другой – спокойно постоять и подождать, когда мяч питчера сам попадет в него) и поблагодарю за возможность отбиться самостоятельно.
(Опубликовано впервые в «0-9» (Нью-Йорк), 1969, и «Art-Language» (Англия), 1969.
Перевод с английского Полины ЖУРАКОВСКОЙ
http://moscowartmagazine.com/issue/23/article/366)
(начало цитаты)
"В одном полученном мною от некоего редактора письме упоминалось, что он не склонен считать, что «художник – это своего рода обезьяна, поведение которой становится понятным лишь благодаря цивилизованному критику». Пожалуй, это хорошая новость и для художников, и для обезьян. Преисполненный такой уверенности, я надеюсь оправдать редакторские надежды. Воспользуюсь бейсбольной метафорой (если один художник предпочитает отбить мяч в поле, то другой – спокойно постоять и подождать, когда мяч питчера сам попадет в него) и поблагодарю за возможность отбиться самостоятельно.


Тот вид искусства, которым я занимаюсь, назван мною концептуальным искусством. В концептуальном искусстве самый важный аспект произведения – это идея или концепция. Это означает, что все планы и решения принимаются заранее, а само выполнение является формальностью. Идея становится тем механизмом, который создает искусство. Этот вид искусства не является теоретическим и отнюдь не иллюстрирует некую теорию. Концептуальное искусство интуитивно; оно задействует все типы мыслительной активности; оно бесполезно. Как правило, оно не зависит от ремесленного мастерства художника. Для художника, занимающегося концептуальным искусством, важно, чтобы зритель с интересом интеллектуально воспринял произведение, поэтому он постарается сделать его эмоционально сухим. Впрочем, нет оснований предполагать, что концептуальный художник собирается наводить на зрителя скуку. Единственное, что может оттолкнуть зрителя от восприятия этого искусства, – это ожидание эмоционального удовольствия, воспитанного привычным общением с экспрессионистским искусством.
Концептуальное искусство отнюдь не обязательно логично. Логика работы или серии работ – это инструмент, используемый порою лишь для того, чтобы быть уничтоженным. Логика может применяться в качестве камуфляжа подлинных намерений художника. Она может создать у зрителя иллюзорное ощущение, будто он понимает это искусство. Иногда логика нужна для создания парадоксальных ситуаций (например, логичное versusалогичное). Некоторые идеи логичны в виде концепции, но нелогичны при восприятии. Идеям вовсе не нужно быть сложными. Многие успешные идеи до смешного просты. Видимая простота успешных идей связана с тем, что они кажутся очевидными. Работая с идеями, художник волен удивить даже самого себя. Идеи возникают интуитивно. Не очень важно, как выглядит произведение искусства. Ему непременно надо выглядеть, как что-то, если у него есть физическая форма. Не важно, какую форму оно примет в итоге, важно, чтобы оно начиналось с идеи. Художника больше всего заботят процессы продумывания и реализации концепции. В тот момент, когда произведение наделяется физической реальностью, оно становится открыто восприятию каждого, в том числе и художника. (Слово «восприятие» я использую для обозначения способности к представлению реальности, данной в чувствах, объективного понимания идеи и одновременной субъективной интерпретации и того и другого). Произведение искусства может быть воспринято лишь после того, как оно завершено.
Искусство, которое ориентируется преимущественно на зрительные ощущения, будет называться скорее перцептивным, нежели концептуальным. Оно будет включать в себя почти все оптическое, кинетическое, световое и колористическое искусство.
Функции концепции и перцепции противоречат друг другу (одна опирается на замысел, вторая – на конечный результат), поэтому привнесение художником субъективности в произведение может привести к упрощению его идеи. Если же художник хочет проанализировать идею достаточно глубоко, он сведет к минимуму произвольные или случайные решения; при этом каприз, вкус и прихоть будут исключены из процесса создания искусства. Вовсе не обязательно отказываться от произведения, если оно плохо смотрится. Иногда то, что сначала представляется корявым и неуклюжим, в итоге оказывается приятным глазу.
Избежать субъективных привнесений можно, четко следуя заранее разработанному плану. Благодаря ему необязательно продумывать каждое произведение по очереди. План определит замысел произведения. Некоторые планы допускают сотни вариаций, некоторые сводятся к ограниченному числу, но в обоих случаях число вариаций конечно. Другие планы предполагают бесконечное множество вариаций. В любом случае, однако, художник должен выбрать основную форму и правила, которые будут определять решение проблемы. Затем, чем меньше решений будет принято в процессе завершения произведения, тем лучше. Это позволит оптимально исключить все случайное, произвольное и субъективное. Вот причина для использования этого метода.
Если художник использует метод многократной модуляции, он, как правило, выбирает простую и легко доступную форму. Значение формы как таковой весьма ограничено; она становится грамматической основой для всего произведения. На самом деле лучше всего сознательно подобрать неинтересный базовый элемент, чтобы он скорее стал имманентной частью всего произведения. Применение сложных базовых элементов лишь нарушает единство целого. Повторное использование простой формы сужает область работы и позволяет сконцентрировать мысль на упорядоченности. Упорядоченность становится целью, в то время как форма оказывается средством.
Концептуальное искусство в действительности слабо связано с математикой, философией или какой-либо другой интеллектуальной дисциплиной. Та математика, к которой обращаются в большинстве своем художники, – это простая арифметика или простые числовые системы. Философия произведения подразумевается самим произведением; речь не идет об иллюстрации некой философской системы.
Совершенно не важно, понимает ли зритель концепцию художника, когда видит его искусство. После того как произведение покинуло «мастерскую», художник не может проконтролировать, каким образом зритель его воспримет. Разные люди по-разному понимают одни и те же вещи.
В последнее время много писалось о минимализме в искусстве, но я еще не встретил никого, кто признался бы, что работает в этом направлении. Существуют и другие подобные виды искусства, определяемые как «первичные структуры», «упрощенное искусство», «отверженное искусство», «прохладное искусство» и «мини-арт». Опять же, никто из моих знакомых художников не станет причислять свое творчество к какому-нибудь из этих направлений. Отсюда я заключаю, что это часть тайного языка, на котором критики коммуницируют друг с другом посредством журналов об искусстве. Лучше всех мини-арт – он напоминает о мини-юбках и длинноногих девчонках. Этот термин, должно быть, относится к очень маленьким произведениям искусства. Очень хорошая идея. Возможно, выставки «мини-арта» можно отправлять в турне по стране в спичечных коробках. Или, может быть, мини-художник – это человек очень маленького роста, скажем, не выше ста пятидесяти сантиметров. Если так, то много хороших работ этого направления можно обнаружить в начальных классах (первые классы – первичные структуры).
Если художник доводит свою идею до конца и облекает ее в видимую форму, тогда значение имеют все этапы творческого процесса. Сама идея, даже если она не визуализирована, является произведением искусства в той же степени, что и материально осуществленный результат. Все промежуточные этапы – заметки, наброски, чертежи, неудачные работы, модели, эскизы, мысли, обсуждения – представляют интерес. Те из них, которые показывают мыслительный процесс художника, порою бывают интереснее конечного результата.
Определить, какого размера должно быть произведение, очень сложно. Если идея требует воплощения в трех измерениях, то может показаться, что любой размер подойдет. Вопрос в том, какой размер окажется самым подходящим. Если сделать вещь огромной, сам размер окажется настолько впечатляющим, что идея полностью затеряется. Опять же, если сделать вещь слишком маленькой, она может стать совсем незначительной. Рост зрителя может иметь некоторое отношение к произведению, равно как и размер пространства, в котором оно выставлено. По своему желанию художник может поместить объекты выше или ниже уровня глаз зрителя. Я думаю, вещь должна быть достаточно большой, чтобы дать зрителю ту информацию, которая ему нужна для понимания произведения, и помещена таким образом, чтобы это способствовало пониманию (если только сама идея не связана с помехами и не требует затруднений при рассматривании).
Пространство можно представить как куб, заполненный трехмерным объемом. Пространство может занимать любой объем. Это воздух, и его не видно. Это интервалы между предметами, и их можно измерить. Интервалы и измерения могут иметь принципиальное значение для произведения. Если важны промежутки определенного размера, их следует сделать очевидными. Если пространство относительно не важно, оно может быть отрегулировано и выровнено (фрагменты произведения будут располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга) для того, чтобы снизить интерес к интервалам. Регулярное пространство также может стать метрическим элементом времени, своего рода ритмичным биением пульса. Если интервал задается как регулярный, все нерегулярное приобретает большее значение.
Архитектура и трехмерное искусство имеют диаметрально противоположную природу. Архитектура задается целью создать помещение, соответствующее специфическим функциям. Архитектурное сооружение вне зависимости от того, имеет ли оно художественную ценность, должно быть утилитарно, в противном случае оно обречено на провал. Искусство не утилитарно. Если трехмерное искусство приобретает какие-нибудь дополнительные характеристики, например задает форму утилитарного помещения, то ослабевает его функция как искусства. Когда зритель ощущает себя карликом, глядя на огромные размеры произведения, это давление акцентирует физическое и эмоциональное преобладание формы, в результате чего теряется идея работы.
Новые материалы – это одна из самых больших бед современного искусства. Некоторые художники путают новые материалы с новыми идеями. Нет ничего хуже искусства, барахтающегося среди цветастых побрякушек. Большинству художников, привлеченных этими материалами, недостает строгости ума, которая позволила бы им мудро их применить. Надо быть хорошим художником, чтобы использовать новые материалы и создать с их помощью произведение искусства. Опасность, как мне кажется, заключается в том, что физические свойства материалов оказываются настолько важны, что становятся основной идеей произведения (новый тип экспрессионизма).
Трехмерное искусство любого рода – это физический факт реальности. В его материальности заключается наиболее очевидное и экспрессивное содержание. Концептуальное искусство создается для того, чтобы привлечь ум зрителя, а не его взгляд или эмоции. Материальность трехмерного объекта при этом оказывается противоречием по отношению к его нечувственному содержанию. Цвет, поверхность, текстура и форма лишь подчеркивают физические аспекты работы. Все, что привлекает внимание и вызывает интерес к материальности, уводит нас от понимания идеи и используется как экспрессивное средство.
Концептуальный художник будет стремиться к тому, чтобы свести к минимуму акцент на материальной стороне произведения либо представить эту сторону парадоксальном способом (обратить ее в идею). Этим видом искусства следует заниматься с предельной экономией средств. Любую идею, которую можно лучше выразить в двухмерном измерении, не следует представлять в трех измерениях. Идеи могут также быть выражены в числах, фотографиях, словах или любым иным способом по выбору художника, при этом форма будет не важна.
Нижеследующие параграфы не носят характер категорического императива, однако изложенные в них идеи в наибольшей степени отвечают моим размышлениям последнего времени. Эти идеи суть результат моей работы как художника, и они изменяются по мере того, как изменяется мой опыт. Я постарался изложить их с предельной ясностью. Если мои формулировки неясны, это может означать, что мышление неясно. Еще при написании этих тезисов возникали очевидные противоречия (я постарался их исправить, но некоторые из них, возможно, проскользнули в текст). Я вовсе не пропагандирую концептуальное искусство для всех художников. Также я не думаю, что все концептуальное искусство заслуживает внимания зрителей. Концептуальное искусство хорошо лишь тогда, когда хороша идея.
Концептуальное искусство отнюдь не обязательно логично. Логика работы или серии работ – это инструмент, используемый порою лишь для того, чтобы быть уничтоженным. Логика может применяться в качестве камуфляжа подлинных намерений художника. Она может создать у зрителя иллюзорное ощущение, будто он понимает это искусство. Иногда логика нужна для создания парадоксальных ситуаций (например, логичное versusалогичное). Некоторые идеи логичны в виде концепции, но нелогичны при восприятии. Идеям вовсе не нужно быть сложными. Многие успешные идеи до смешного просты. Видимая простота успешных идей связана с тем, что они кажутся очевидными. Работая с идеями, художник волен удивить даже самого себя. Идеи возникают интуитивно. Не очень важно, как выглядит произведение искусства. Ему непременно надо выглядеть, как что-то, если у него есть физическая форма. Не важно, какую форму оно примет в итоге, важно, чтобы оно начиналось с идеи. Художника больше всего заботят процессы продумывания и реализации концепции. В тот момент, когда произведение наделяется физической реальностью, оно становится открыто восприятию каждого, в том числе и художника. (Слово «восприятие» я использую для обозначения способности к представлению реальности, данной в чувствах, объективного понимания идеи и одновременной субъективной интерпретации и того и другого). Произведение искусства может быть воспринято лишь после того, как оно завершено.
Искусство, которое ориентируется преимущественно на зрительные ощущения, будет называться скорее перцептивным, нежели концептуальным. Оно будет включать в себя почти все оптическое, кинетическое, световое и колористическое искусство.
Функции концепции и перцепции противоречат друг другу (одна опирается на замысел, вторая – на конечный результат), поэтому привнесение художником субъективности в произведение может привести к упрощению его идеи. Если же художник хочет проанализировать идею достаточно глубоко, он сведет к минимуму произвольные или случайные решения; при этом каприз, вкус и прихоть будут исключены из процесса создания искусства. Вовсе не обязательно отказываться от произведения, если оно плохо смотрится. Иногда то, что сначала представляется корявым и неуклюжим, в итоге оказывается приятным глазу.
Избежать субъективных привнесений можно, четко следуя заранее разработанному плану. Благодаря ему необязательно продумывать каждое произведение по очереди. План определит замысел произведения. Некоторые планы допускают сотни вариаций, некоторые сводятся к ограниченному числу, но в обоих случаях число вариаций конечно. Другие планы предполагают бесконечное множество вариаций. В любом случае, однако, художник должен выбрать основную форму и правила, которые будут определять решение проблемы. Затем, чем меньше решений будет принято в процессе завершения произведения, тем лучше. Это позволит оптимально исключить все случайное, произвольное и субъективное. Вот причина для использования этого метода.
Если художник использует метод многократной модуляции, он, как правило, выбирает простую и легко доступную форму. Значение формы как таковой весьма ограничено; она становится грамматической основой для всего произведения. На самом деле лучше всего сознательно подобрать неинтересный базовый элемент, чтобы он скорее стал имманентной частью всего произведения. Применение сложных базовых элементов лишь нарушает единство целого. Повторное использование простой формы сужает область работы и позволяет сконцентрировать мысль на упорядоченности. Упорядоченность становится целью, в то время как форма оказывается средством.
Концептуальное искусство в действительности слабо связано с математикой, философией или какой-либо другой интеллектуальной дисциплиной. Та математика, к которой обращаются в большинстве своем художники, – это простая арифметика или простые числовые системы. Философия произведения подразумевается самим произведением; речь не идет об иллюстрации некой философской системы.
Совершенно не важно, понимает ли зритель концепцию художника, когда видит его искусство. После того как произведение покинуло «мастерскую», художник не может проконтролировать, каким образом зритель его воспримет. Разные люди по-разному понимают одни и те же вещи.
В последнее время много писалось о минимализме в искусстве, но я еще не встретил никого, кто признался бы, что работает в этом направлении. Существуют и другие подобные виды искусства, определяемые как «первичные структуры», «упрощенное искусство», «отверженное искусство», «прохладное искусство» и «мини-арт». Опять же, никто из моих знакомых художников не станет причислять свое творчество к какому-нибудь из этих направлений. Отсюда я заключаю, что это часть тайного языка, на котором критики коммуницируют друг с другом посредством журналов об искусстве. Лучше всех мини-арт – он напоминает о мини-юбках и длинноногих девчонках. Этот термин, должно быть, относится к очень маленьким произведениям искусства. Очень хорошая идея. Возможно, выставки «мини-арта» можно отправлять в турне по стране в спичечных коробках. Или, может быть, мини-художник – это человек очень маленького роста, скажем, не выше ста пятидесяти сантиметров. Если так, то много хороших работ этого направления можно обнаружить в начальных классах (первые классы – первичные структуры).
Если художник доводит свою идею до конца и облекает ее в видимую форму, тогда значение имеют все этапы творческого процесса. Сама идея, даже если она не визуализирована, является произведением искусства в той же степени, что и материально осуществленный результат. Все промежуточные этапы – заметки, наброски, чертежи, неудачные работы, модели, эскизы, мысли, обсуждения – представляют интерес. Те из них, которые показывают мыслительный процесс художника, порою бывают интереснее конечного результата.
Определить, какого размера должно быть произведение, очень сложно. Если идея требует воплощения в трех измерениях, то может показаться, что любой размер подойдет. Вопрос в том, какой размер окажется самым подходящим. Если сделать вещь огромной, сам размер окажется настолько впечатляющим, что идея полностью затеряется. Опять же, если сделать вещь слишком маленькой, она может стать совсем незначительной. Рост зрителя может иметь некоторое отношение к произведению, равно как и размер пространства, в котором оно выставлено. По своему желанию художник может поместить объекты выше или ниже уровня глаз зрителя. Я думаю, вещь должна быть достаточно большой, чтобы дать зрителю ту информацию, которая ему нужна для понимания произведения, и помещена таким образом, чтобы это способствовало пониманию (если только сама идея не связана с помехами и не требует затруднений при рассматривании).
Пространство можно представить как куб, заполненный трехмерным объемом. Пространство может занимать любой объем. Это воздух, и его не видно. Это интервалы между предметами, и их можно измерить. Интервалы и измерения могут иметь принципиальное значение для произведения. Если важны промежутки определенного размера, их следует сделать очевидными. Если пространство относительно не важно, оно может быть отрегулировано и выровнено (фрагменты произведения будут располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга) для того, чтобы снизить интерес к интервалам. Регулярное пространство также может стать метрическим элементом времени, своего рода ритмичным биением пульса. Если интервал задается как регулярный, все нерегулярное приобретает большее значение.
Архитектура и трехмерное искусство имеют диаметрально противоположную природу. Архитектура задается целью создать помещение, соответствующее специфическим функциям. Архитектурное сооружение вне зависимости от того, имеет ли оно художественную ценность, должно быть утилитарно, в противном случае оно обречено на провал. Искусство не утилитарно. Если трехмерное искусство приобретает какие-нибудь дополнительные характеристики, например задает форму утилитарного помещения, то ослабевает его функция как искусства. Когда зритель ощущает себя карликом, глядя на огромные размеры произведения, это давление акцентирует физическое и эмоциональное преобладание формы, в результате чего теряется идея работы.
Новые материалы – это одна из самых больших бед современного искусства. Некоторые художники путают новые материалы с новыми идеями. Нет ничего хуже искусства, барахтающегося среди цветастых побрякушек. Большинству художников, привлеченных этими материалами, недостает строгости ума, которая позволила бы им мудро их применить. Надо быть хорошим художником, чтобы использовать новые материалы и создать с их помощью произведение искусства. Опасность, как мне кажется, заключается в том, что физические свойства материалов оказываются настолько важны, что становятся основной идеей произведения (новый тип экспрессионизма).
Трехмерное искусство любого рода – это физический факт реальности. В его материальности заключается наиболее очевидное и экспрессивное содержание. Концептуальное искусство создается для того, чтобы привлечь ум зрителя, а не его взгляд или эмоции. Материальность трехмерного объекта при этом оказывается противоречием по отношению к его нечувственному содержанию. Цвет, поверхность, текстура и форма лишь подчеркивают физические аспекты работы. Все, что привлекает внимание и вызывает интерес к материальности, уводит нас от понимания идеи и используется как экспрессивное средство.
Концептуальный художник будет стремиться к тому, чтобы свести к минимуму акцент на материальной стороне произведения либо представить эту сторону парадоксальном способом (обратить ее в идею). Этим видом искусства следует заниматься с предельной экономией средств. Любую идею, которую можно лучше выразить в двухмерном измерении, не следует представлять в трех измерениях. Идеи могут также быть выражены в числах, фотографиях, словах или любым иным способом по выбору художника, при этом форма будет не важна.
Нижеследующие параграфы не носят характер категорического императива, однако изложенные в них идеи в наибольшей степени отвечают моим размышлениям последнего времени. Эти идеи суть результат моей работы как художника, и они изменяются по мере того, как изменяется мой опыт. Я постарался изложить их с предельной ясностью. Если мои формулировки неясны, это может означать, что мышление неясно. Еще при написании этих тезисов возникали очевидные противоречия (я постарался их исправить, но некоторые из них, возможно, проскользнули в текст). Я вовсе не пропагандирую концептуальное искусство для всех художников. Также я не думаю, что все концептуальное искусство заслуживает внимания зрителей. Концептуальное искусство хорошо лишь тогда, когда хороша идея.
Тезисы концептуального искусства
1. Концептуальные художники скорее мистики, нежели рационалисты. Они приходят к таким заключениям, к которым логика привести не может.
2. Рациональные суждения повторяют рациональные суждения.
3. Иррациональные суждения приводят к новому опыту.
4. Формальное искусство в высшей степени рационально.
5. Иррациональные идеи следует проводить последовательно и логично.
6. Если художник изменяет решение на полпути к завершению работы, он пересматривает результат и повторяет прошлые результаты.
7. Воля художника вторична по отношению к инициированному им процессу от замысла до завершения. Его своеволие происходит от его эго.
8. Если используются такие слова, как «живопись» и «скульптура», они подразумевают художественную традицию и предполагают последовательное принятие этой традиции, ограничивая тем самым художника, который неохотно делает искусство, «выходящее за рамки».
9. Концепция и идея суть разные вещи. Концепция задает общее направление, идея является компонентом произведения. Идеи позволяют реализовать концепцию.
10. Идеи могут быть произведениями искусства; они включены в цепь развития, которая в итоге может приобрести форму. Идеи не должны быть непременно реализованы в материи.
11. Идеи не обязательно развиваются в соответствии с логическим принципом. Они могут задать неожиданное направление, однако идея непременно должна получить завершение в уме прежде, чем появится новая.
12. Для каждого произведения, получившего физическую форму, существует много вариаций, которые не были воплощены в материи.
13. Произведение искусства можно рассматривать как проводник между умом художника и умом зрителя. Однако произведение может никогда не достичь зрителя или оно также может никогда не покинуть ум художника.
14. Слова одного художника в адрес другого могут породить цепь идей, если оба художника разделяют общую концепцию.
15. Ни одна из форм ничем не превосходит остальные, поэтому художник может использовать любую форму – от словесного выражения (записанного или высказанного) до физического объекта.
16. Если используются слова и они проистекают из идей об искусстве, тогда они суть искусство, а не литература; числа не являются математикой.
17. Все идеи являются искусством, если они связаны с искусством и подпадают под нормы искусства.
18. Обычно искусство прошлого понимают, соотнося его с нормами настоящего, отчего понимание искусства прошлого оказывается ошибочным.
19. Произведения искусства изменяют нормы искусства.
20. Успешное искусство изменяет наше понимание норм, изменяя наше восприятие.
21. Восприятие идей ведет к появлению новых идей.
22. Художник не может представить себе свое искусство и не может постичь его до тех пор, пока оно не завершено.
23. Художник может ложно воспринять чужое произведение искусства (отлично от художника-автора), однако это недопонимание может инициировать в нем собственную цепочку размышлений.
24. Восприятие субъективно.
25. Художник не обязательно понимает собственное искусство. Его восприятие не лучше и не хуже, чем у других.
26. Художник может воспринимать чужое искусство лучше, чем свое.
27. Концепция произведения искусства может включать в себя материал, в котором выполнена работа, или технику его создания.
28. После того как идея работы определилась в уме художника и принято решение о конечной форме, процесс протекает вслепую. Возникает множество побочных эффектов, которые художник не мог себе представить. Они могут использоваться как идеи для новых произведений.
29. Процесс носит механический характер, не следует в него вмешиваться. Он должен идти своим ходом.
30. В произведении искусства задействовано множество элементов. Самые важные из них – самые очевидные.
31. Если художник использует одну и ту же форму в серии работ и меняет материал, можно предположить, что концепция художника связана с материалом.
32. Банальные идеи не спасет прекрасное выполнение.
33. Сложно испортить хорошую идею плохим выполнением.
34. Когда художник чересчур отточит свое мастерство, у него начнет получаться гладкое искусство.
35. Эти тезисы суть комментарии к искусству, но не искусство." (конец цитаты)
1. Концептуальные художники скорее мистики, нежели рационалисты. Они приходят к таким заключениям, к которым логика привести не может.
2. Рациональные суждения повторяют рациональные суждения.
3. Иррациональные суждения приводят к новому опыту.
4. Формальное искусство в высшей степени рационально.
5. Иррациональные идеи следует проводить последовательно и логично.
6. Если художник изменяет решение на полпути к завершению работы, он пересматривает результат и повторяет прошлые результаты.
7. Воля художника вторична по отношению к инициированному им процессу от замысла до завершения. Его своеволие происходит от его эго.
8. Если используются такие слова, как «живопись» и «скульптура», они подразумевают художественную традицию и предполагают последовательное принятие этой традиции, ограничивая тем самым художника, который неохотно делает искусство, «выходящее за рамки».
9. Концепция и идея суть разные вещи. Концепция задает общее направление, идея является компонентом произведения. Идеи позволяют реализовать концепцию.
10. Идеи могут быть произведениями искусства; они включены в цепь развития, которая в итоге может приобрести форму. Идеи не должны быть непременно реализованы в материи.
11. Идеи не обязательно развиваются в соответствии с логическим принципом. Они могут задать неожиданное направление, однако идея непременно должна получить завершение в уме прежде, чем появится новая.
12. Для каждого произведения, получившего физическую форму, существует много вариаций, которые не были воплощены в материи.
13. Произведение искусства можно рассматривать как проводник между умом художника и умом зрителя. Однако произведение может никогда не достичь зрителя или оно также может никогда не покинуть ум художника.
14. Слова одного художника в адрес другого могут породить цепь идей, если оба художника разделяют общую концепцию.
15. Ни одна из форм ничем не превосходит остальные, поэтому художник может использовать любую форму – от словесного выражения (записанного или высказанного) до физического объекта.
16. Если используются слова и они проистекают из идей об искусстве, тогда они суть искусство, а не литература; числа не являются математикой.
17. Все идеи являются искусством, если они связаны с искусством и подпадают под нормы искусства.
18. Обычно искусство прошлого понимают, соотнося его с нормами настоящего, отчего понимание искусства прошлого оказывается ошибочным.
19. Произведения искусства изменяют нормы искусства.
20. Успешное искусство изменяет наше понимание норм, изменяя наше восприятие.
21. Восприятие идей ведет к появлению новых идей.
22. Художник не может представить себе свое искусство и не может постичь его до тех пор, пока оно не завершено.
23. Художник может ложно воспринять чужое произведение искусства (отлично от художника-автора), однако это недопонимание может инициировать в нем собственную цепочку размышлений.
24. Восприятие субъективно.
25. Художник не обязательно понимает собственное искусство. Его восприятие не лучше и не хуже, чем у других.
26. Художник может воспринимать чужое искусство лучше, чем свое.
27. Концепция произведения искусства может включать в себя материал, в котором выполнена работа, или технику его создания.
28. После того как идея работы определилась в уме художника и принято решение о конечной форме, процесс протекает вслепую. Возникает множество побочных эффектов, которые художник не мог себе представить. Они могут использоваться как идеи для новых произведений.
29. Процесс носит механический характер, не следует в него вмешиваться. Он должен идти своим ходом.
30. В произведении искусства задействовано множество элементов. Самые важные из них – самые очевидные.
31. Если художник использует одну и ту же форму в серии работ и меняет материал, можно предположить, что концепция художника связана с материалом.
32. Банальные идеи не спасет прекрасное выполнение.
33. Сложно испортить хорошую идею плохим выполнением.
34. Когда художник чересчур отточит свое мастерство, у него начнет получаться гладкое искусство.
35. Эти тезисы суть комментарии к искусству, но не искусство." (конец цитаты)

ПУСТОТА В ИЗОБРАЖЕНИИ КД)
СЕМЬ ФОТОГРАФИЙ
Андрей Монтастырский
(книга Андрей Монастырский "Эстетические исследования", Москва, 2009г)
Эта заметка предполагает, что читатель ее либо присутствовал на тех акциях, о которых здесь говорится, либо — что еще лучше — знаком с нашей книгой «Поездки за город». Я постараюсь кратко рассмотреть здесь взаимоотношение между событием акции и вторичным материалом, который его документирует.
С большой степенью достоверности можно сказать, что в данном случае вторичный материал порождает совершенно иную эстетическую реальность: те законы построения и восприятия, которые действуют в процессе осуществления акций, принципиально отличны от структурного единства вторичного материала (куда входят не только фотографии, но и тексты — описательные и рассказы участников).
Обычно предполагается, что вторичный материал отражает сущность работы. Рассматривая его, мы можем обнаружить авторские интенции, понять и оценить произведение. В наших работах ничего подобного не происходит. В лучшем случае при знакомстве с фотографиями и текстами может возникнуть ощущение положительной неопределенности. Но остается неясным, какой же знак из всего материала (или, может быть, это знак всей его совокупности) указывает на сущность события. Попробуем обнаружить этот знак.
Для этого нам необходимо уточнить категорию «сущность события». При упрощенном и беглом рассмотрении проблемы обнаруживается три вида или три уровня этой сущности — демонстрационная, экзистенциальная и интенциональная. Для краткости дискурса допустим, что в наших акциях экзистенциальная и интенциональная сущности совпадают. Об экзистенциальной сущности скажем только, что акции реализуются в получении некоего реального опыта, но не в получении изображения этого опыта. Отсюда следует, что искать прямого соответствия между вторичным материалом и экзистенциальной сущностью не имеет смысла, не говоря уже о том, что, рассматривая вторичный материал, нельзя получить этот опыт.
Обратимся теперь к демонстрационной сущности, которая развертывается «параллельно» экзистенциальной в процессе осуществления акции. Знаковость этой сущности определяется тем, что она принадлежит к системе демонстрационных отношений и, следовательно, во вторичном материале должен быть знак, указывающий на нее. Его-то и следует искать среди множества фотографий вторичного материала.
В авторских комментариях к акциям мы полагали эту демонстрационную сущность в так называемом «пустом действии», когда в структуру акции вводится внедемонстрационный элемент. Механизм «пустого действия» очень ясно можно проследить по «Комедии». Фигура в балахоне движется в сторону зрителей. Участник с поднятыми под балахоном руками имитирует пространство, в котором — для наблюдателей — находится второй участник. На самом деле второго участника там нет. Участник в балахоне как бы несет «спрятанную пустоту». Затем он поднимает балахон и «спрятанная пустота» становится явной. Участник в балахоне уходит в лес. Перед зрителями остается пустое поле. Но теперь пустота этого поля не та же самая пустота, которая была до начала действия — она «неслучайная». Вся работа устроителей акции заключалась в том, чтобы создать эту «неслучайную пустоту», вернуть неслучайность пустоты всегда случайно пустому пространству. На опустевшем поле, «спрятавшем» второго участника, в какой-то неопределимый момент происходило нечто близкое к тому «ничтоженью Ничто», о котором Хайдеггер говорит: «Ничтоженье не случайное происшествие, а то указывающее отсылание к ускользающему сущему в целом, которое приоткрывает это сущее в его полной, до того потаенной странности как нечто совершенно Другое — в противовес Ничто.. Оно впервые ставит наше человеческое вот-бытие перед лицом сущего как такового» («Что такое метафизика?»).
До тех пор, пока участник в балахоне не поднял балахон, не обнаружил «спрятанную пустоту», все, что происходило на поле, было лишь подготовкой и зрители находились в обычном состоянии ожидания. Но после того, как пустота была высвобождена и «наполнила» демонстрационное поле, ожидание превратилось в событие, то есть произошло то, что в комментариях мы называем «совершившимся ожиданием». Переживание «совершившегося ожидания» и есть тот реальный опыт, о котором мы говорили в связи с экзистенциальной сущностью события. Но этот процесс происходит в сознании зрителей и никак не может быть изображен. Может быть изображено то, что сопровождает этот внутренний процесс, то, что происходит на поле действия в это время. Но на поле
Обратимся теперь к демонстрационной сущности, которая развертывается «параллельно» экзистенциальной в процессе осуществления акции. Знаковость этой сущности определяется тем, что она принадлежит к системе демонстрационных отношений и, следовательно, во вторичном материале должен быть знак, указывающий на нее. Его-то и следует искать среди множества фотографий вторичного материала.
В авторских комментариях к акциям мы полагали эту демонстрационную сущность в так называемом «пустом действии», когда в структуру акции вводится внедемонстрационный элемент. Механизм «пустого действия» очень ясно можно проследить по «Комедии». Фигура в балахоне движется в сторону зрителей. Участник с поднятыми под балахоном руками имитирует пространство, в котором — для наблюдателей — находится второй участник. На самом деле второго участника там нет. Участник в балахоне как бы несет «спрятанную пустоту». Затем он поднимает балахон и «спрятанная пустота» становится явной. Участник в балахоне уходит в лес. Перед зрителями остается пустое поле. Но теперь пустота этого поля не та же самая пустота, которая была до начала действия — она «неслучайная». Вся работа устроителей акции заключалась в том, чтобы создать эту «неслучайную пустоту», вернуть неслучайность пустоты всегда случайно пустому пространству. На опустевшем поле, «спрятавшем» второго участника, в какой-то неопределимый момент происходило нечто близкое к тому «ничтоженью Ничто», о котором Хайдеггер говорит: «Ничтоженье не случайное происшествие, а то указывающее отсылание к ускользающему сущему в целом, которое приоткрывает это сущее в его полной, до того потаенной странности как нечто совершенно Другое — в противовес Ничто.. Оно впервые ставит наше человеческое вот-бытие перед лицом сущего как такового» («Что такое метафизика?»).
До тех пор, пока участник в балахоне не поднял балахон, не обнаружил «спрятанную пустоту», все, что происходило на поле, было лишь подготовкой и зрители находились в обычном состоянии ожидания. Но после того, как пустота была высвобождена и «наполнила» демонстрационное поле, ожидание превратилось в событие, то есть произошло то, что в комментариях мы называем «совершившимся ожиданием». Переживание «совершившегося ожидания» и есть тот реальный опыт, о котором мы говорили в связи с экзистенциальной сущностью события. Но этот процесс происходит в сознании зрителей и никак не может быть изображен. Может быть изображено то, что сопровождает этот внутренний процесс, то, что происходит на поле действия в это время. Но на поле действия в это время ничего не происходит, оно пусто, участники ушли. Но в результате того, что один участник, «высвободивший» пустоту, ушел в лес, а другой исчез в уже метафоризованном как «потаенность» поле, перед зрителями осталась «неслучайная» пустота, отличная от всегда случайно пустого пространства. Эта неслучайная пустота и есть демонстрационная сущность события, а фотография пустого поля, снятого в этот момент, есть знак, указывающий на эту сущность. Все остальные фотографии «Комедии» являются лишь документацией подготовительной работы, включая и те фотографии, на которых изображен человек в балахоне, двигающийся по полю (то есть то, что непосредственно наблюдали зрители во время действия).
СЕМЬ ФОТОГРАФИЙ
Андрей Монтастырский
(книга Андрей Монастырский "Эстетические исследования", Москва, 2009г)
Эта заметка предполагает, что читатель ее либо присутствовал на тех акциях, о которых здесь говорится, либо — что еще лучше — знаком с нашей книгой «Поездки за город». Я постараюсь кратко рассмотреть здесь взаимоотношение между событием акции и вторичным материалом, который его документирует.
С большой степенью достоверности можно сказать, что в данном случае вторичный материал порождает совершенно иную эстетическую реальность: те законы построения и восприятия, которые действуют в процессе осуществления акций, принципиально отличны от структурного единства вторичного материала (куда входят не только фотографии, но и тексты — описательные и рассказы участников).
Обычно предполагается, что вторичный материал отражает сущность работы. Рассматривая его, мы можем обнаружить авторские интенции, понять и оценить произведение. В наших работах ничего подобного не происходит. В лучшем случае при знакомстве с фотографиями и текстами может возникнуть ощущение положительной неопределенности. Но остается неясным, какой же знак из всего материала (или, может быть, это знак всей его совокупности) указывает на сущность события. Попробуем обнаружить этот знак.
Для этого нам необходимо уточнить категорию «сущность события». При упрощенном и беглом рассмотрении проблемы обнаруживается три вида или три уровня этой сущности — демонстрационная, экзистенциальная и интенциональная. Для краткости дискурса допустим, что в наших акциях экзистенциальная и интенциональная сущности совпадают. Об экзистенциальной сущности скажем только, что акции реализуются в получении некоего реального опыта, но не в получении изображения этого опыта. Отсюда следует, что искать прямого соответствия между вторичным материалом и экзистенциальной сущностью не имеет смысла, не говоря уже о том, что, рассматривая вторичный материал, нельзя получить этот опыт.
Обратимся теперь к демонстрационной сущности, которая развертывается «параллельно» экзистенциальной в процессе осуществления акции. Знаковость этой сущности определяется тем, что она принадлежит к системе демонстрационных отношений и, следовательно, во вторичном материале должен быть знак, указывающий на нее. Его-то и следует искать среди множества фотографий вторичного материала.
В авторских комментариях к акциям мы полагали эту демонстрационную сущность в так называемом «пустом действии», когда в структуру акции вводится внедемонстрационный элемент. Механизм «пустого действия» очень ясно можно проследить по «Комедии». Фигура в балахоне движется в сторону зрителей. Участник с поднятыми под балахоном руками имитирует пространство, в котором — для наблюдателей — находится второй участник. На самом деле второго участника там нет. Участник в балахоне как бы несет «спрятанную пустоту». Затем он поднимает балахон и «спрятанная пустота» становится явной. Участник в балахоне уходит в лес. Перед зрителями остается пустое поле. Но теперь пустота этого поля не та же самая пустота, которая была до начала действия — она «неслучайная». Вся работа устроителей акции заключалась в том, чтобы создать эту «неслучайную пустоту», вернуть неслучайность пустоты всегда случайно пустому пространству. На опустевшем поле, «спрятавшем» второго участника, в какой-то неопределимый момент происходило нечто близкое к тому «ничтоженью Ничто», о котором Хайдеггер говорит: «Ничтоженье не случайное происшествие, а то указывающее отсылание к ускользающему сущему в целом, которое приоткрывает это сущее в его полной, до того потаенной странности как нечто совершенно Другое — в противовес Ничто.. Оно впервые ставит наше человеческое вот-бытие перед лицом сущего как такового» («Что такое метафизика?»).
До тех пор, пока участник в балахоне не поднял балахон, не обнаружил «спрятанную пустоту», все, что происходило на поле, было лишь подготовкой и зрители находились в обычном состоянии ожидания. Но после того, как пустота была высвобождена и «наполнила» демонстрационное поле, ожидание превратилось в событие, то есть произошло то, что в комментариях мы называем «совершившимся ожиданием». Переживание «совершившегося ожидания» и есть тот реальный опыт, о котором мы говорили в связи с экзистенциальной сущностью события. Но этот процесс происходит в сознании зрителей и никак не может быть изображен. Может быть изображено то, что сопровождает этот внутренний процесс, то, что происходит на поле действия в это время. Но на поле
Обратимся теперь к демонстрационной сущности, которая развертывается «параллельно» экзистенциальной в процессе осуществления акции. Знаковость этой сущности определяется тем, что она принадлежит к системе демонстрационных отношений и, следовательно, во вторичном материале должен быть знак, указывающий на нее. Его-то и следует искать среди множества фотографий вторичного материала.
В авторских комментариях к акциям мы полагали эту демонстрационную сущность в так называемом «пустом действии», когда в структуру акции вводится внедемонстрационный элемент. Механизм «пустого действия» очень ясно можно проследить по «Комедии». Фигура в балахоне движется в сторону зрителей. Участник с поднятыми под балахоном руками имитирует пространство, в котором — для наблюдателей — находится второй участник. На самом деле второго участника там нет. Участник в балахоне как бы несет «спрятанную пустоту». Затем он поднимает балахон и «спрятанная пустота» становится явной. Участник в балахоне уходит в лес. Перед зрителями остается пустое поле. Но теперь пустота этого поля не та же самая пустота, которая была до начала действия — она «неслучайная». Вся работа устроителей акции заключалась в том, чтобы создать эту «неслучайную пустоту», вернуть неслучайность пустоты всегда случайно пустому пространству. На опустевшем поле, «спрятавшем» второго участника, в какой-то неопределимый момент происходило нечто близкое к тому «ничтоженью Ничто», о котором Хайдеггер говорит: «Ничтоженье не случайное происшествие, а то указывающее отсылание к ускользающему сущему в целом, которое приоткрывает это сущее в его полной, до того потаенной странности как нечто совершенно Другое — в противовес Ничто.. Оно впервые ставит наше человеческое вот-бытие перед лицом сущего как такового» («Что такое метафизика?»).
До тех пор, пока участник в балахоне не поднял балахон, не обнаружил «спрятанную пустоту», все, что происходило на поле, было лишь подготовкой и зрители находились в обычном состоянии ожидания. Но после того, как пустота была высвобождена и «наполнила» демонстрационное поле, ожидание превратилось в событие, то есть произошло то, что в комментариях мы называем «совершившимся ожиданием». Переживание «совершившегося ожидания» и есть тот реальный опыт, о котором мы говорили в связи с экзистенциальной сущностью события. Но этот процесс происходит в сознании зрителей и никак не может быть изображен. Может быть изображено то, что сопровождает этот внутренний процесс, то, что происходит на поле действия в это время. Но на поле действия в это время ничего не происходит, оно пусто, участники ушли. Но в результате того, что один участник, «высвободивший» пустоту, ушел в лес, а другой исчез в уже метафоризованном как «потаенность» поле, перед зрителями осталась «неслучайная» пустота, отличная от всегда случайно пустого пространства. Эта неслучайная пустота и есть демонстрационная сущность события, а фотография пустого поля, снятого в этот момент, есть знак, указывающий на эту сущность. Все остальные фотографии «Комедии» являются лишь документацией подготовительной работы, включая и те фотографии, на которых изображен человек в балахоне, двигающийся по полю (то есть то, что непосредственно наблюдали зрители во время действия).
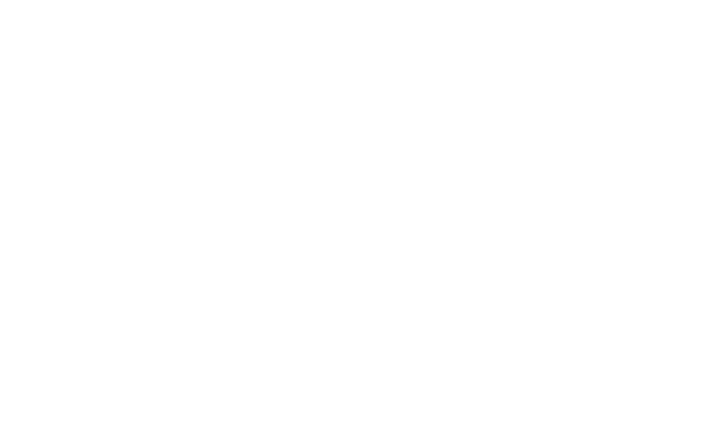
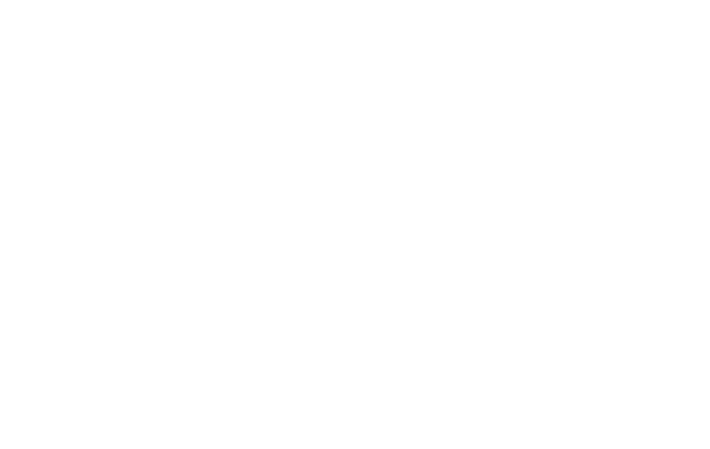

Итак, фотография пустого поля, изъятая из ряда документальных фотографий, повествующих о том, что происходило на поле 2 октября 1977 года, перестает быть документальной, становится знаком более высокого порядка, знаком «неслучайной пустоты» с таким смыслом: «на ней ничего не изображено не потому, что ничего не происходило в данный момент, а потому, что то, что происходило, принципиально неизображаемо». Демонстрационная сущность события — «пустое действие» — изображается отсутствием изображения. Эта данность «неизображаемости» и работает, на мой взгляд, самостоятельно и положительно (в рамках этого дискурса) в предложенной здесь последовательности семи «пустых» фотографий семи наших акций.
Кроме рассмотренной фотографии «Комедии», в этом ряду есть еще три фотографии, на которых также изображено пустое поле. Все эти «пустые» поля являются знаками «неслучайной пустоты». Уходя с места действия «Либлиха» участники акции знали, что невидимый под снегом электрический звонок продолжает звенеть. Стоя на опушке леса перед пустым полем («Комедия») после того, как участник в балахоне ушел в лес, зрители знали (но с меньшей определенностью локализации, чем в «Либлихе»), что невидимый исчезнувший участник лежит где-то в поле. Так же им было понятно, что остался где-то в поле безголовый двойник ушедшего в лес участника в акции «Третий вариант». Невидимой с исходной позиции съемок и наблюдения оставалась на протяжении всей акции и замена одного участника другим в «Месте действия». Все эти четыре «пустых» фотографии отражают конструктивный, сущностный момент действия. Они изображают «невидимость» как демонстрационное отношение, образованную двумя способами: способом «спрятанности» («Либлих», «Комедия», «Третий вариант») и способом отдаленности («Место действия»). Невидимость, изображенная на этих фотографиях, указывает на «потаенность», противоположную «различимой видимости» — области конкретных значений, где «сущее в целом» исчезает в какой-либо определенной явленности бесконечно множественного мира. Между «невидимостью» и «различимой видимостью» — в демонстрационной структуре — существует переходный этап, который можно назвать «неразличимостью» и где возникает-ускользает «сущее в целом», — именно там, прорывая исчезающую завесу потаенности, оно превращается в видимость видимого мира.
Пограничная природа «неразличимости» оправдывает, на мой взгляд, помещение в ряд «пустых» фотографий еще трех фотографий трех акций: «Появление», «Картины» и «Лозунг-80» («Кизевальтеру»).
На фотографиях «Появления» и «Картин» на стыке дальнего конца поля и леса можно увидеть едва различимые фигуры участников.
На фотографии «Появления» изображена пустота, которая только что перестала быть пустой. Участники еще не вышли, но уже выходят из «потаенности» (здесь мы имеем дело с чисто дискурсивной «потаенностью» — на уровне события и вторичного материала участники выходят из леса, который не был метафоризован как «потаенность» ни в «Появлении», ни в «Картинах»), или они уже вышли из «потаенности», но еще не вошли в «видимость видимого мира». Они еще точно не обозначились как «появившиеся», на них еще лежит печать случайного совпадения-
ожидание зрителей еще не уничтожено банальностью и однозначностью ситуации На этом этапе действия семантическое пространство еще не определилось, оно опаздывает, не развертывается одновременно с физическим пространством происходящего «появления». Эта разница в несколько секунд между началом действия и началом его понимания и есть демонстрационная сущность события — «пустое действие» — знаком которого и является эта фотография.
Иная ситуация изображена на фотографии «Картин». Здесь участники, незаметно от зрителей, уже прошли демонстрационную зону «различимой видимости» и вот-вот скроются в «потаенности». Акция построена таким образом, что участники предстают перед зрителями сразу в «неразличимости», предстают сразу как «люди, исчезающие вдали». Но фотография говорит не о них, исчезающих вдали. На фотографии уже слишком много пустого пространства, пустота неудержимо наполняет фотографию, смывая в «невидимость» фигуры участников, она уже готова появиться во всей полноте и смысл ее доминирует здесь над любым другим смыслом.
На всех рассмотренных шести фотографиях «потаенность», в зависимости от того, каким способом образована «невидимость» или «неразличимость», которые «изображены» на фотографиях, — выражена либо дальней полосой черного леса («спрятанность»), либо перспективным пространством («отдаленность»), либо полем («спрятанность»).
Фотография «Лозунга-80» является также знаком перспективного пространства: отдаленность от предмета (белой полоски на далеком черном лесе) образует «неразличимость» — тонкую перегородку исчезающей предметности, за которой начинается пустота «невидимости». Но если на фотографиях «Появления» и «Картин» эта «перегородка» подвижна и, в одном случае, уже готова исчезнуть («Картины»), а в другом — превратиться в различительную конкретность видимости, то на фотографии «Лозунга-80» она неподвижна. Она, как плотина, не дает пустоте наполнить перспективное пространство фотографии. «Неразличимость» не становится «невидимостью» и «потаенность» здесь не выражается перспективным пространством. Но очевидно, что смысл пустоты доминирует и в этой фотографии так же, как и на фотографиях «Появления» и «Картин», на ней «изображена» «невидимость», указывающая на «потаенность», которой не является ни лес, ни поле, ни перспективное пространство.
Обратимся теперь к единственному участнику и фотографу этой акции. Где он и что с ним происходит? Механизм работы «Лозунга-80» очень похож на механизм «Комедии». Участник «Лозунга-80» (он же фотограф) совмещает в себе и «участника в балахоне» и, одновременно, зрителя. Участник в балахоне в «Комедии» знал, что он несет «спрятанную пустоту», участник же «Лозунга-80» этого не знал, но производя манипуляции с лозунгом, он также нес и развешивал «спрятанную пустоту» — в данном случае «спрятанную неразличимость». Обнаружив издали неразличимый текст (сняв с помощью длинных лесок покрывало лозунга), он одновременно обнаружил себя на границе запрета, проложенной замыслом работы. Пространство между ним и лозунгом стало для него запретным. У него осталось только одно направление движения — дальше от лозунга. «Неразличимость» стремится к «невидимости», требует пустого пространства. Пустота расширяется и гонит фотографа, исчезающего в множественности видимого мира. «Потаенность» этой фотографии выражена внефотографическим пространством, тем пространством, где находится «спрятанный» фотограф и где находимся мы, разглядывающие эту фотографию. «Неслучайность» потенциальной пустоты этой фотографии обусловлена невидимостью «спрятанного» во внефотографическом пространстве фотографа. На этой фотографии, в отличие от фотографии «Картин», пустота, остановленная плотиной лозунга, развертывается на нас, тогда как там она развертывалась вдаль, от нас. Там участники исчезают в лесу, который и становится знаком«потаенности». На этой фотографии фотограф (и мы) «спрятаны» во внефотографическом пространстве, в «действительном» мире, который и становится знаком «потаенности» на этой фотографии. «Неслучайность» потенциальной пустоты возникает здесь через ту особенность «спрятавшего» нас пространства, которая не дает фотографу и нам прочесть неразличимые буквы текста на лозунге.
Мы начали наши рассуждения с того, что «неизображенность» является демонстрационной сущностью события наших акций и соотносима с их экзистенциальной сущностью. Затем мы увидели, что эта «неизображенность» построена различными способами и в данной последовательности фотографий изображает либо лес, либо поле, либо перспективное, либо внефотографическое пространства, которые указывают на «неслучайность» пустоты этих фотографий. Рассмотренные здесь семь «пустых» фотографий, являясь знаками более высокого порядка, чем просто документ, именно своей самостоятельной метафоричностью соответствуют той эстетической реальности, которая возникает в процессе осуществления акций. Их эстетическая реальность, в которой действуют особые законы построения и восприятия, отличные от законов построения и восприятия события, находится на том же знаковом уровне, что и эстетическая реальность события. Любые другие фотографии акций и тексты, включая и всю совокупность вторичного материала, не отражают демонстрационной сущности события и, следовательно, не адекватны его экзистенциальной сущности. Однопорядковость знаковых уровней — вот условие соответствия между вторичным материалом и тем событием, которое он отражает. Этим необходимым качеством — самостоятельной метафоричностью — и обладает, на мой взгляд, предложенная здесь последовательность семи «пустых» фотографий."
Декабрь 1980 г.
Кроме рассмотренной фотографии «Комедии», в этом ряду есть еще три фотографии, на которых также изображено пустое поле. Все эти «пустые» поля являются знаками «неслучайной пустоты». Уходя с места действия «Либлиха» участники акции знали, что невидимый под снегом электрический звонок продолжает звенеть. Стоя на опушке леса перед пустым полем («Комедия») после того, как участник в балахоне ушел в лес, зрители знали (но с меньшей определенностью локализации, чем в «Либлихе»), что невидимый исчезнувший участник лежит где-то в поле. Так же им было понятно, что остался где-то в поле безголовый двойник ушедшего в лес участника в акции «Третий вариант». Невидимой с исходной позиции съемок и наблюдения оставалась на протяжении всей акции и замена одного участника другим в «Месте действия». Все эти четыре «пустых» фотографии отражают конструктивный, сущностный момент действия. Они изображают «невидимость» как демонстрационное отношение, образованную двумя способами: способом «спрятанности» («Либлих», «Комедия», «Третий вариант») и способом отдаленности («Место действия»). Невидимость, изображенная на этих фотографиях, указывает на «потаенность», противоположную «различимой видимости» — области конкретных значений, где «сущее в целом» исчезает в какой-либо определенной явленности бесконечно множественного мира. Между «невидимостью» и «различимой видимостью» — в демонстрационной структуре — существует переходный этап, который можно назвать «неразличимостью» и где возникает-ускользает «сущее в целом», — именно там, прорывая исчезающую завесу потаенности, оно превращается в видимость видимого мира.
Пограничная природа «неразличимости» оправдывает, на мой взгляд, помещение в ряд «пустых» фотографий еще трех фотографий трех акций: «Появление», «Картины» и «Лозунг-80» («Кизевальтеру»).
На фотографиях «Появления» и «Картин» на стыке дальнего конца поля и леса можно увидеть едва различимые фигуры участников.
На фотографии «Появления» изображена пустота, которая только что перестала быть пустой. Участники еще не вышли, но уже выходят из «потаенности» (здесь мы имеем дело с чисто дискурсивной «потаенностью» — на уровне события и вторичного материала участники выходят из леса, который не был метафоризован как «потаенность» ни в «Появлении», ни в «Картинах»), или они уже вышли из «потаенности», но еще не вошли в «видимость видимого мира». Они еще точно не обозначились как «появившиеся», на них еще лежит печать случайного совпадения-
ожидание зрителей еще не уничтожено банальностью и однозначностью ситуации На этом этапе действия семантическое пространство еще не определилось, оно опаздывает, не развертывается одновременно с физическим пространством происходящего «появления». Эта разница в несколько секунд между началом действия и началом его понимания и есть демонстрационная сущность события — «пустое действие» — знаком которого и является эта фотография.
Иная ситуация изображена на фотографии «Картин». Здесь участники, незаметно от зрителей, уже прошли демонстрационную зону «различимой видимости» и вот-вот скроются в «потаенности». Акция построена таким образом, что участники предстают перед зрителями сразу в «неразличимости», предстают сразу как «люди, исчезающие вдали». Но фотография говорит не о них, исчезающих вдали. На фотографии уже слишком много пустого пространства, пустота неудержимо наполняет фотографию, смывая в «невидимость» фигуры участников, она уже готова появиться во всей полноте и смысл ее доминирует здесь над любым другим смыслом.
На всех рассмотренных шести фотографиях «потаенность», в зависимости от того, каким способом образована «невидимость» или «неразличимость», которые «изображены» на фотографиях, — выражена либо дальней полосой черного леса («спрятанность»), либо перспективным пространством («отдаленность»), либо полем («спрятанность»).
Фотография «Лозунга-80» является также знаком перспективного пространства: отдаленность от предмета (белой полоски на далеком черном лесе) образует «неразличимость» — тонкую перегородку исчезающей предметности, за которой начинается пустота «невидимости». Но если на фотографиях «Появления» и «Картин» эта «перегородка» подвижна и, в одном случае, уже готова исчезнуть («Картины»), а в другом — превратиться в различительную конкретность видимости, то на фотографии «Лозунга-80» она неподвижна. Она, как плотина, не дает пустоте наполнить перспективное пространство фотографии. «Неразличимость» не становится «невидимостью» и «потаенность» здесь не выражается перспективным пространством. Но очевидно, что смысл пустоты доминирует и в этой фотографии так же, как и на фотографиях «Появления» и «Картин», на ней «изображена» «невидимость», указывающая на «потаенность», которой не является ни лес, ни поле, ни перспективное пространство.
Обратимся теперь к единственному участнику и фотографу этой акции. Где он и что с ним происходит? Механизм работы «Лозунга-80» очень похож на механизм «Комедии». Участник «Лозунга-80» (он же фотограф) совмещает в себе и «участника в балахоне» и, одновременно, зрителя. Участник в балахоне в «Комедии» знал, что он несет «спрятанную пустоту», участник же «Лозунга-80» этого не знал, но производя манипуляции с лозунгом, он также нес и развешивал «спрятанную пустоту» — в данном случае «спрятанную неразличимость». Обнаружив издали неразличимый текст (сняв с помощью длинных лесок покрывало лозунга), он одновременно обнаружил себя на границе запрета, проложенной замыслом работы. Пространство между ним и лозунгом стало для него запретным. У него осталось только одно направление движения — дальше от лозунга. «Неразличимость» стремится к «невидимости», требует пустого пространства. Пустота расширяется и гонит фотографа, исчезающего в множественности видимого мира. «Потаенность» этой фотографии выражена внефотографическим пространством, тем пространством, где находится «спрятанный» фотограф и где находимся мы, разглядывающие эту фотографию. «Неслучайность» потенциальной пустоты этой фотографии обусловлена невидимостью «спрятанного» во внефотографическом пространстве фотографа. На этой фотографии, в отличие от фотографии «Картин», пустота, остановленная плотиной лозунга, развертывается на нас, тогда как там она развертывалась вдаль, от нас. Там участники исчезают в лесу, который и становится знаком«потаенности». На этой фотографии фотограф (и мы) «спрятаны» во внефотографическом пространстве, в «действительном» мире, который и становится знаком «потаенности» на этой фотографии. «Неслучайность» потенциальной пустоты возникает здесь через ту особенность «спрятавшего» нас пространства, которая не дает фотографу и нам прочесть неразличимые буквы текста на лозунге.
Мы начали наши рассуждения с того, что «неизображенность» является демонстрационной сущностью события наших акций и соотносима с их экзистенциальной сущностью. Затем мы увидели, что эта «неизображенность» построена различными способами и в данной последовательности фотографий изображает либо лес, либо поле, либо перспективное, либо внефотографическое пространства, которые указывают на «неслучайность» пустоты этих фотографий. Рассмотренные здесь семь «пустых» фотографий, являясь знаками более высокого порядка, чем просто документ, именно своей самостоятельной метафоричностью соответствуют той эстетической реальности, которая возникает в процессе осуществления акций. Их эстетическая реальность, в которой действуют особые законы построения и восприятия, отличные от законов построения и восприятия события, находится на том же знаковом уровне, что и эстетическая реальность события. Любые другие фотографии акций и тексты, включая и всю совокупность вторичного материала, не отражают демонстрационной сущности события и, следовательно, не адекватны его экзистенциальной сущности. Однопорядковость знаковых уровней — вот условие соответствия между вторичным материалом и тем событием, которое он отражает. Этим необходимым качеством — самостоятельной метафоричностью — и обладает, на мой взгляд, предложенная здесь последовательность семи «пустых» фотографий."
Декабрь 1980 г.

Когда объекты репрезентируются в контексте искусства (а до недавних пор [в искусстве] всегда использовались объекты), они подлежат эстетическому рассмотрению, как и любые объекты внешнего мира; эстетическое же рассмотрение объекта, существующего в сфере искусства, означает, что существование и функционирование в контексте искусства не имеет касательств к эстетическому суждению.
Отношение эстетики к искусству похоже на отношение эстетики к архитектуре, поскольку архитектура обладает весьма специфической функцией и то, насколько «хорош» ее дизайн, в первую очередь определяется тем, как хорошо она выполняет свою функцию. Значит, суждение о том, как архитектура выглядит, соотносится со вкусом: мы действительно можем видеть, как на протяжении истории в различное время - в зависимости от эстетики той или иной конкретной эпохи - хвалили различные образцы архитектуры. Эстетическое мышление заходило так далеко, что образцы архитектуры оказывались вообще не связанными с искусством, но притом - с произведениями искусства как такового (например, египетских пирамид).
Действительно, эстетические суждения всегда оказываются внешними по отношению к функции объекта или же к его «смыслу существования». Исключением, конечно, являются случаи, когда «смысл существования» объекта - строго эстетический. Примером чисто эстетического объекта является объект декоративный, поскольку изначальная функция декоративного объекта заключается в том, чтобы «добавить нечто так, чтобы сделать объект более привлекательным, украсить, орнаментировать». А это непосредственно связано со вкусом и прямо подводит нас к «формалистическому» искусству и критике. Формалистическое искусство (живопись и скульптура) есть передовой отряд украшательства (декорации). Строго говоря, можно обоснованно утверждать, что его состояние как искусства настолько минимально, что по всем функциональным назначениям оно является не искусством, но чистыми упражнениями эстетики. Климент Гринберг - это прежде всего критик вкуса. За любым его решением стоит художественное суждение, причем суждения эти отражают его вкус. Но что отражает его вкус? Тот период, когда Гринберг сформировался как критик, период «реальный» для него, пятидесятые годы. Исходя из его теорий (если допустить, что в них присутствует некая логика), как иначе можно объяснить, что его не интересуют Фрэнк Стелла, Эд Рейнхардт и другие, вполне подходящие под его историческую схему? Действительно ли ответ в том, что он «не сочувствует им по личным мотивам»? Значит, иными словами, их произведения не соответствуют его вкусу?
Но в философском «чистом поле» (tabula rasa) искусства, «ежели кто-нибудь назвал что-нибудь искусством» (пользуясь удачным выражением Дональда Джадда), то это и будет искусство? В подобной ситуации деятельность по созданию формалистической живописи и скульптуры может гарантировать «состояние искусства», но только при условии ее презентации в терминах собственной идеи искусства (т. е. [если наличествует] прямоугольный холст, натянутый на деревянную раму, покрытый теми или иными цветами, с использованием тех или иных форм, обеспечивающих то или иное визуальное переживание, и т. д.). Глядя на современное искусство в таком свете, осознаешь, насколько минимальны творческие усилия, предпринятые формалистическими художниками, и в частности живописцами (работающими нынче в данном качестве).
Все это приводит нас к осознанию следующего факта: то, что формалистическое искусство и критика принимают за определение искусства, существует исключительно на морфологическом уровне. И хотя значительное число сходно выглядящих объектов или образов (или же визуально родственных объектов и образов) могут показаться связанными [с искусством] (или относящимися к нему) вследствие сходства визуальных/экспериментальных «прочтений», было бы необоснованным выводить из этого [факта] художественное или концептуально родство.
Значит, вполне очевидно, что зависимость формалистической критики от морфологии с необходимостью ведет к предвзятости в отношении морфологии традиционного искусства. И в этом смысле подобная критика не связана с каким-либо «научным методом», ни с каким-либо видом эмпиризма (в противоположность тому, в чем хотел бы нас убедить Майкл Фрид своими детальными описаниями картин и иными учеными параферналиями). Формалистическая критика есть не более чем анализ физических атрибутов неких отдельных объектов, которые бытуют в морфологическом контексте. Однако она не добавляет никаких знаний (или фактов) к нашему пониманию природы или функции искусства. Не занимается она и комментарием того, в какой степени анализируемые объекты вообще относятся к произведениям искусства, поскольку формалистическая критика неизменно обходит концептуальный элемент в произведениях искусства. Причиной же того, что [эта критика] не комментирует концептуальный элемент в произведениях, является тот факт, что формалистическое искусство вообще становится таковым исключительно в силу сходства с более ранними образчиками произведений искусства. Это совершенно безмозглое (mindless) искусство. Как точно и кратко сформулировала Люси Липпард по отношению к живописи Жюля Олитского, «это визуальный музой (Muzak)».
Отношение эстетики к искусству похоже на отношение эстетики к архитектуре, поскольку архитектура обладает весьма специфической функцией и то, насколько «хорош» ее дизайн, в первую очередь определяется тем, как хорошо она выполняет свою функцию. Значит, суждение о том, как архитектура выглядит, соотносится со вкусом: мы действительно можем видеть, как на протяжении истории в различное время - в зависимости от эстетики той или иной конкретной эпохи - хвалили различные образцы архитектуры. Эстетическое мышление заходило так далеко, что образцы архитектуры оказывались вообще не связанными с искусством, но притом - с произведениями искусства как такового (например, египетских пирамид).
Действительно, эстетические суждения всегда оказываются внешними по отношению к функции объекта или же к его «смыслу существования». Исключением, конечно, являются случаи, когда «смысл существования» объекта - строго эстетический. Примером чисто эстетического объекта является объект декоративный, поскольку изначальная функция декоративного объекта заключается в том, чтобы «добавить нечто так, чтобы сделать объект более привлекательным, украсить, орнаментировать». А это непосредственно связано со вкусом и прямо подводит нас к «формалистическому» искусству и критике. Формалистическое искусство (живопись и скульптура) есть передовой отряд украшательства (декорации). Строго говоря, можно обоснованно утверждать, что его состояние как искусства настолько минимально, что по всем функциональным назначениям оно является не искусством, но чистыми упражнениями эстетики. Климент Гринберг - это прежде всего критик вкуса. За любым его решением стоит художественное суждение, причем суждения эти отражают его вкус. Но что отражает его вкус? Тот период, когда Гринберг сформировался как критик, период «реальный» для него, пятидесятые годы. Исходя из его теорий (если допустить, что в них присутствует некая логика), как иначе можно объяснить, что его не интересуют Фрэнк Стелла, Эд Рейнхардт и другие, вполне подходящие под его историческую схему? Действительно ли ответ в том, что он «не сочувствует им по личным мотивам»? Значит, иными словами, их произведения не соответствуют его вкусу?
Но в философском «чистом поле» (tabula rasa) искусства, «ежели кто-нибудь назвал что-нибудь искусством» (пользуясь удачным выражением Дональда Джадда), то это и будет искусство? В подобной ситуации деятельность по созданию формалистической живописи и скульптуры может гарантировать «состояние искусства», но только при условии ее презентации в терминах собственной идеи искусства (т. е. [если наличествует] прямоугольный холст, натянутый на деревянную раму, покрытый теми или иными цветами, с использованием тех или иных форм, обеспечивающих то или иное визуальное переживание, и т. д.). Глядя на современное искусство в таком свете, осознаешь, насколько минимальны творческие усилия, предпринятые формалистическими художниками, и в частности живописцами (работающими нынче в данном качестве).
Все это приводит нас к осознанию следующего факта: то, что формалистическое искусство и критика принимают за определение искусства, существует исключительно на морфологическом уровне. И хотя значительное число сходно выглядящих объектов или образов (или же визуально родственных объектов и образов) могут показаться связанными [с искусством] (или относящимися к нему) вследствие сходства визуальных/экспериментальных «прочтений», было бы необоснованным выводить из этого [факта] художественное или концептуально родство.
Значит, вполне очевидно, что зависимость формалистической критики от морфологии с необходимостью ведет к предвзятости в отношении морфологии традиционного искусства. И в этом смысле подобная критика не связана с каким-либо «научным методом», ни с каким-либо видом эмпиризма (в противоположность тому, в чем хотел бы нас убедить Майкл Фрид своими детальными описаниями картин и иными учеными параферналиями). Формалистическая критика есть не более чем анализ физических атрибутов неких отдельных объектов, которые бытуют в морфологическом контексте. Однако она не добавляет никаких знаний (или фактов) к нашему пониманию природы или функции искусства. Не занимается она и комментарием того, в какой степени анализируемые объекты вообще относятся к произведениям искусства, поскольку формалистическая критика неизменно обходит концептуальный элемент в произведениях искусства. Причиной же того, что [эта критика] не комментирует концептуальный элемент в произведениях, является тот факт, что формалистическое искусство вообще становится таковым исключительно в силу сходства с более ранними образчиками произведений искусства. Это совершенно безмозглое (mindless) искусство. Как точно и кратко сформулировала Люси Липпард по отношению к живописи Жюля Олитского, «это визуальный музой (Muzak)».
Произведения искусства суть аналитические высказывания. То есть если рассматривать их в пределах собственного контекста — как искусство,— то они не несут никакой информации ни о чем. Произведение искусства есть тавтология потому, что оно есть презентация намерения художника, т.е. он говорит, что конкретное произведение искусства есть искусство, и это значит: оно есть определение [понятия] искусства.
Итак, то, что это — искусство, по сути, является чистым внеопытным данным (a priori). Именно это имел в виду Джада, когда сказал: «...ежели кто-нибудь назвал что-нибудь искусством, то это и будет искусство».
Действительно, представляется невозможным обсуждать искусство в общих терминах, без использования тавтологии — ведь пытаться «ухватить» искусство за какую-либо иную «ручку» означает попросту сосредоточиться на другом аспекте или качестве высказывания, обычно не имеющего значения для «состояния искусства» в конкретном артефакте. Начинаешь понимать, что «состояние искусства» — это концептуальное состояние. Тот факт, что языковые формы, в которые художник облекает свои высказывания, подчас есть «частные коды» или языки, неизбежное условие свободы искусства от морфологических ограничений, а из этого следует, что, для того чтобы понимать и оценивать современное искусство, необходимо знакомство с ним.
По аналогии можно понять, почему «простой человек с улицы» столь нетерпим к художественному искусству (artistic art) и всегда требует искусства как традиционного языка. (Теперь понятно, почему формалистическое искусство распродается «как горячие пирожки».) Только в живописи и в скульптуре художники говорили на одном языке. То, что формалисты называют «новаторским искусством» (Novelty Art), есть подчас попытка найти новые языки, хотя [наличие] нового языка вовсе не значит, что он будет оформлять некие новые высказывания (пример: большинство кинетического и электронного искусства).
То, что Айер сформулировал в контексте языка для аналитического метода, по-другому можно приложить и к искусству, т.е. обоснованность высказываний искусства не зависит ни от каких эмпирических (и еще менее от эстетических) допущений относительно природы вещей. Ибо художник, как и аналитик, не связан непосредственно с физическими параметрами вещей. Он заботится только о том, 1) какие возможности имеет искусство для концептуального роста, и 2) как высказывания способны логически следовать за этим ростом. Словом, по характеру высказывания искусства — не фактические, но лингвистические. Это значит, что они не описывают поведение ни физических, ни даже ментальных объектов, а выражают определения искусства или формальные последствия определений искусства. Соответственно мы можем сказать, что искусство оперирует в согласии с логикой. Дальше мы увидим, что характерная особенность чисто логического единства заключается в том, что оно связано с формальными последствиями наших определений (искусства), а вовсе не с проблемами эмпирических фактов.
Повторю снова: с логикой и математикой у искусства есть то общее, что оно суть тавтология, т.е. идея искусства (или произведения) и искусство суть одно и то же и может оцениваться как искусство, не выходя за пределы контекста искусства для какой-либо верификации. С другой стороны, давайте рассмотрим, почему искусство не может быть синтетическим высказыванием (во всяком случае, испытывает большие трудности при попытке быть им). Это значит, что истина или ложность утверждений (искусства) не могут быть проверены эмпирическим путем. Айер заявляет:
Критерий, посредством которого мы определяем основательность априорного или аналитического высказывания, недостаточен для определения основательности эмпирического или синтетического высказывания. Ибо для эмпирических высказываний характерно, что их основательность не является чисто формальной. Заявить что геометрическое высказывание или целая система геометрических высказываний ложны - значит заявить, что они противоречат сами себе. Но эмпирическое высказывание или система эмпирических высказываний могут быть свободны от противоречий и все же быть ложными. Когда говорят, что они ложны, это не значит, что они обладают формальным дефектом, но значит, что они не удовлетворяют какому-то определенному материальному критерию.
Нереальность «реалистического» искусства вытекает из того, что оно оформляется как синтетическое высказывание: зритель постоянно испытывает искушение проверить его
эмпирическим путем. Синтетическое свойство реализма не возвращает нас назад, к вопрошанию в рамках более широкого круга вопросов о природе искусства (в противоположность работам таких художников, как Малевич, Мондриан, Поллок, Рейнхардт, ранний Раушенберг, Джонс, Лихтенштейн, Уорхолл, Андре, Джадд, Флавин, ЛеВитт, Моррис и другие) — скорее мы просто покидаем «орбиту» искусства и оказываемся в «беспредельном пространстве» человеческого существования.
Чистый экспрессионизм можно было бы определить (продолжая пользоваться терминами Айера) так: «Предложение, состоящее только из демонстративных символов, не может быть настоящим высказыванием. Такое предложение могло бы быть простым восклицанием, никоим образом не характеризующим то, к чему оно предположительно относится». Экспрессионистские произведения обычно и есть этакие «восклицания», бытующие в морфологическом языке традиционного искусства. Если Поллок и важен, то только потому, что он писал на незакрепленных кусках холста, расстеленных на полу, горизонтально. Что совершенно не важно у Поллока, так это то, что позже он натягивал свои забрызганные холсты на подрамники и вешал их на стены, вертикально. (Важно то, что художник привносит своего в искусство, а не то, как он адаптируется к существовавшему до него.) И еще меньшее значение для искусства имеют утверждения Поллока о «самовыражении», поскольку само понятие различных субъективных смыслов бесполезно для кого угодно, кто не имел личного контакта с конкретным художником. «Специфичность» подобных понятий решительно оказывается вне контекста искусства.
«Я не делаю искусство, — говорит Ричард Серра. — Я исполняю некую деятельность; если кто-то хочет называть ее искусством, то это их дело — решать тут не мне. Все это обычно выясняется позже». Итак, Серра прекрасно отдает себе отчет о возможных последствиях своей деятельности. Если Серра действительно только «выясняет, как себя ведет свинец» (с точки зрения гравитационной, молекулярной и т.д.), тогда почему кто-то действительно должен считать его деятельность искусством? Если он не берет на себя ответственность за то, что он «делает искусство», кто может (или должен) такую ответственность принять? В самом деле, работы Серра кажутся вполне эмпирически достоверными: свинец способен на многое, поэтому он и используется для различных физических надобностей. Все перечисленное ведет к чему угодно, но только не к диалогу о природе искусства. В определенном смысле слова Серра — примитивист. У него и понятия нет об искусстве. Однако откуда тогда мы знаем о его «деятельности»? Мы знаем потому, что он сообщил нам, что это искусство, — определенными своими поступками, уже после того, как «деятельность» состоялась. То есть он использовал несколько галерей, поместил туда и в музеи некие физические остатки своей «деятельности», а также продал их коллекционерам искусства (впрочем, как мы уже указывали, в определении «состояния искусства» в конкретной работе коллекционеры роли не играют). Итак, отрицая, что его работы есть искусство, и «играя в художника», Серра обозначает нечто большее, чем парадокс. Он тайно ощущает, что к «искусству» приходят эмпирическим путем. Как сказал Айер: «Не существует абсолютно точных эмпирических высказываний. Точны только тавтологии. Эмпирические вопросы, все как один, суть гипотезы, которые могут быть подтверждены или опровергнуты в реальном чувственном опыте. И высказывания, в которых мы оформляем наблюдения, подтверждающие эти гипотезы, сами по себе тоже являются гипотезами, которые должны быть подвергнуты дальнейшей проверке чувственным опытом. Поэтому нет окончательных высказываний».
В сочинениях Эда Рейнхардта можно найти весьма близкое понятие — искусство как искусство — и тезис о том, что «всякое искусство всегда мертво, живое искусство — это обман» [23]. Рейнхардт очень хорошо представлял себе природу искусства. Его истинное значение до сих пор не оценено. Формы искусства, которые можно считать синтетическими высказываниями, подтверждаются всем миром, т.е. чтобы понять эти высказывания, необходимо выйти за тавтологический предел искусства и рассмотреть «внешнюю» информацию. Однако чтобы рассматривать их как искусство, эту внешнюю информацию необходимо игнорировать, поскольку внешняя информация (например, качества, добываемые экспериментальным путем) имеет свою собственную внутреннюю ценность. Чтобы осознать эту ценность, совсем не нужно прибегать к «состоянию искусства».
Отсюда легко осознать, что жизнеспособность искусства не связана с презентацией визуального (или любого другого) [человеческого] переживания. Вполне возможно, что в предшествовавшие века одна из внешних функций искусства была именно такова. В конце концов, даже в XIX столетии человек обитал в довольно стандартном визуальном окружении. То есть обычно можно было с известной легкостью предсказать, с чем человек будет вступать в контакт изо дня в день: в той части мира, в которой жил конкретный человек, визуальное окружение было относительно постоянным. В наше время, напротив, экспериментальное окружение [человека] чрезвычайно обогатилось. Вокруг земного шара можно облететь за какие-нибудь часы и дни (а не месяцы, как прежде). У нас есть кино, цветное телевидение, равно как и рукотворные чудеса — световые шоу Лас-Вегаса или нью-йоркские небоскребы. Весь мир доступен для обозрения, и, с другой стороны, весь мир может увидеть человека на поверхности Луны, не выходя из своих квартир. Разумеется, никто не ожидает, что объекты живописи и скульптуры смогут визуально и экспериментально состязаться со всем этим.
Понятие «пользы» тоже релевантно и для искусства, и для его «языка». Совсем недавно коробка или куб использовались в контексте искусства довольно много (сравните, например, эти формы у Джадда, Морриса, ЛеВитта, Бладена, Смита, Белла и Мак-Кракена, не говоря уже об изобилии коробок и кубов, созданных после). Различие между столь разнообразными применениями формы коробки или куба прямо связано с различиями в намерениях авторов-художников. Более того, использование коробки или куба (особенно у Джадда) хорошо иллюстрирует наше утверждение о том, что объект только тогда становится искусством, когда он помещается в контекст искусства. Несколько примеров прояснят данное положение. Можно утверждать, что если одну из коробок Джадда наполнить мусором и поместить в индустриальную среду (и даже просто поставить на улицу), то она не идентифицировалась бы как искусство. Отсюда следует, что понимание и осмысление ее как произведения искусства будет лишь априорным и должно предшествовать непосредственному рассмотрению ее как артефакта. Для оценки и понимания современного (contemporary) искусства необходима предварительная информация о понятии искусства и о концепциях конкретного художника. Любой отдельный физический атрибут (качество) или даже совокупность всех атрибутов произведений современного искусства для концепции искусства совершенно не важны. Концепция искусства, как сказал Джадд (хотя и имел в виду другое), должна восприниматься как нечто целостное. Рассматривать элементы концепции значит всегда рассматривать аспекты, не существенные для «состояния искусства», — это все равно, что читать отдельные слова высказывания.
Поэтому не станет неожиданностью утверждение, что искусство с наименее закрепленной морфологией — это и есть тот пример, откуда мы выводим природу обобщающего понятия искусство.Ведь там, где есть контекст, существующий независимо от морфологии [искусства] и включающий его функцию, именно там и можно ожидать наименее предсказуемый, нонконформистский результат. Именно потому, что современное [модернистское] искусство обладает «языком» с самой короткой историей, потому-то обоснованный отказ от данного «языка» и становится наиболее возможным. Отсюда понятно, что искусство, коренящееся в западной (европейской) живописи и скульптуре, из всех общих концепций «искусства» наименее самонадеянно и наиболее энергично действует в вопрошании о природе искусства. Впрочем, в конечном итоге все виды искусства обладают (в терминах Витгенштейна) всего лишь фамильным сходством. Однако разнообразие качеств, связанных с «состоянием искусства» (каковыми обладают, например, поэзия, роман, кино, театр и различные виды музыки и т.д.), и есть тот их аспект, который в определении функции искусства (какой она понимается на данных страницах) наиболее надежен.
Разве упадок поэзии не связан с имплицитной метафизикой, заключенной в употреблении «обычного» языка как языка искусства? В Нью-Йорке последней декадентской фазой поэзии можно считать недавний переход «конкретных» поэтов к использованию реальных предметов и театра. Может быть, они чувствуют нереальность своей собственной художественной формы?
«Мы видим теперь, что аксиомы геометрии суть простые определения и что геометрические теоремы есть просто логические следствия этих определений. Сама по себе геометрия не связана с физическим пространством; нельзя сказать, "о чем" толкует геометрия. Но мы можем использовать геометрию, чтобы анализировать физическое пространство. Иными словами, как только мы придаем аксиомам физическую интерпретацию, мы можем применять теоремы и к объектам, которые удовлетворяют требованиям аксиом. Может ли геометрия быть применена к реальному физическому миру или нет — это эмпирический вопрос, находящийся за пределами исследования самой геометрии. Потому нет смысла вопрошать, какие из известных нам разновидностей геометрии истинны, а какие ложны. Истинны все — в той степени, в какой они свободны от противоречий. Высказывание, утверждающее, что возможно некое определенное применение геометрии, является высказыванием, не относящимся к самой геометрии. Все, что говорит нам сама геометрия, это то, что если что-то можно подвести под определения, то оно также будет соответствовать теоремам. Таким образом, геометрия — это чисто логическая система, и ее высказывания являются чистыми аналитическими высказываниями». (А. Дж. Айер)
Я предполагаю, что именно здесь и кроется жизнеспособность искусства. В эпоху, когда традиционная философия вследствие ее собственных допущений нереальна, способность искусства к существованию будет зависеть не только от его способности не исполнять какую-то службу — например, развлекать, передавать визуальный (или какой-то иной) опыт или украшать, — во всех этих качествах его легко заменяют культура и технология китча; искусство будет жизнеспособным, только не занимая философскую позицию. Уникальный характер искусства заключен в его способности оставаться по отношению ко всем философским суждениям «подвешенным». Именно в таком контексте искусство обнаруживает сходство с наукой — с логикой, математикой, и т.д. Но в то время как все остальные виды деятельности полезны, искусство бесполезно. На самом деле искусство существует только для себя.
В данный период [существования] человека искусство, быть может, единственное (после философии и религии) дерзание, удовлетворяющее то, что в иные времена называли «человеческими духовными потребностями». Можно сказать иначе: искусство адекватно реагирует на то состояние вещей «по ту сторону физики», где философия вынуждена ограничиваться лишь допущениями. И сила искусства в том, что даже предыдущее высказывание есть допущение, которое не может быть им подтверждено. Искусство — это единственное, на что претендует искусство. Искусство есть определение искусства.
II. «Концептуальное искусство» и новейшее искусство
«Разочарование в живописи и скульптуре — это отсутствие интереса к тому, чтобы делать все заново, а не разочарование в них самих — как их делают те, кто разработал самые последние продвинутые разновидности. Новая работа всегда включает противостояние старой. Это противостояние включено в работу. Если более ранняя работа первоклассна, то она завершена в себе» (Дональд Джадд, 1965).
«Абстрактное искусство, или неизобразительное искусство, так же старо, как и сам этот век, и хотя оно более специализировано, чем предыдущее искусство, оно более чистое и более завершенное: и как любая современная мысль или область знания, оно более требовательно в своем охвате человеческих отношений» (Эд Рейнхардт, 1948)
"Во Франции есть старая поговорка: "Глуп, как художник". Художников всегда считали глупыми, а поэтов и писателей всегда считали очень умными. Я хотел быть умным. Мне пришлось заниматься изобретениям. Нет смысла делать то, что делал твой родной отец. Нет смысла быть еще одним Сезанном. В "визуальном" периоде есть еще немного от глупости художника. Все мои работы в тот период до «Обнаженной», были визуальной живописью. А затем у меня родилась идея. Я придумал идеальную формулировку способа избавиться от всех влияний» (Марсель Дюшан)
«Хотя всякое произведение искусства становится физическим явлением, есть и такие, которые этого не делают» (Сол ЛеВитт).
«Основное достоинство геометрических форм в том. что они не органичны, как все прочее искусство. Если бы придумать форму, которая бы не была ни геометрической, ни органической, это было бы великое открытие» (Дональд Джадд, 1967)
«Единственное, что можно сказать об искусстве, — это его бездыханность, безжизненность, бессмертность, бессодержательность, бесформенность, беспро-странственность, безвременность. А это всегда означает конец искусства» (Эд Рейнхардт. 1962).
ПРИМЕЧАНИЕ Вся дискуссия в предшествовавшей части [статьи] не просто оправдывала право новейшего искусства называться «концептуальным». В ней отразилось, как мне кажется, и некоторое смятение ума, связанное с прошлыми (и в особенности с современными) тенденциями развития искусства. Данная статья не должна свидетельствовать о каком-то «движении». Но как один из первых представителей (посредством и творчества, и разговоров) той разновидности искусства, которую лучше всего описывает термин «концептуальное искусство», я все более беспокоюсь относительно совершенно произвольного применения данного термина к искусству, обладающему самыми широкими интересами, и ко многим из них я никогда не желал бы (и логически отнюдь не обязан) обращаться.
Самое «чистое» определение концептуального искусства заключается в том, что это — исследование основ понятия «искусство» и того, что оно стало означать. Как и большинство терминов с довольно своеобразным наполнением, «концептуальное искусство» часто рассматривается как тенденция. Разумеется, в определенном смысле это и есть тенденция, потому что определение «концептуального искусства» весьма близко к смыслу понятия искусства как такового.
Но аргументация подобного понимания тенденции, к моему величайшему сожалению, все еще обусловлена ошибками морфологической характеристики, сопрягающей то, что [на самом деле] является разнохарактерными видами деятельности. В нашем случае это означает попытку выделить стилевые характеристики (slylehood). Допуская первичность причинно-следственных отношений, ведущих к «окончательным последствиям», такая критика не замечает изначальных намерений (концепций) художника и занимается исключительно его «конечным продуктом». В действительности значительная часть критики занимается только поверхностным аспектом этого «конечного продукта», а именно очевидной нематериальностью или «антиобъектным» сходством большинства «концептуальных» произведений искусства. Но все это может быть существенным лишь в том случае, ежели допустить, что объекты необходимо важны для искусства или, лучше сказать, что они имеют недвусмысленную связь с искусством. В таком случае указанная выше критика будет концентрироваться на негативном аспекте искусства.
Если читатель следил за ходом рассуждений в первой части [статьи], то он может понять мое утверждение, что концептуально объекты безразличны по отношению к состоянию искусства. Это вовсе не значит, что какое-то конкретное «исследование искусства» может или не может использовать в рамках предпринятого исследования объекты, материальные субстанции и т.д. Конечно, исследования и разработки, например, Бейнбриджа или Хэррела—превосходные образчики такого использования [27]. Хотя я и предположил, что всякое искусство в конечном итоге концептуально, некоторые из последних работ концептуальны по намерению, в то время как иные образцы новейшего искусства связаны с концептуальным творчеством лишь весьма поверхностно. И, несмотря на то, что многие последние работы в большинстве своем суть прогресс по отношению к «формалистским» или "антиформалистским" тенденциям (Моррис, Серра, Сонье, Гессе и др.), их не следует рассматривать как концептуальное искусство в более точном смысле слова.
Трое художников, которые наиболее часто ассоциируются со мной (в частности в проектах Сета Зигелауба), — Дуглас Хюблер, Роберт Барри и Лоренс Вейнер, — по-моему, не связаны с концептуальным искусством, каким оно определялось выше. Дуглас Хюблер, участвовавший в выставке «Первичные структуры» в Еврейском музее (Нью-Йорк), использует неморфологическую искусствоподобную форму презентации (фотографии, карты, почтовые отправления) для трактовки иконических, структурных, скульптурных проблем, непосредственно вытекающих из его собственных скульптур из ламинатных пластиков (он исполнял их даже в 1968 г.). Сам художник указывает на это в своем предисловии к каталогу персональной выставки (она была организована Сетом Зигелаубом и существовала только в виде документирующего каталога): «Существование каждой скульптуры документируется ее документацией». Все это я привел не для того, чтобы подчеркнуть негативный аспект подобной работы, — я лишь показываю, что у Хюблера (ему сейчас далеко за сорок — он значительно старше, чем большинство рассматриваемых здесь художников) нет тех целей и задач, которые бы сближали его с концептуальным искусством в его наиболее чистой и наиболее распространенной разновидности.
Другие художники — Роберт Барри и Лоренс Вейнер — наблюдали, как их работы, можно сказать, по чистой случайности вызывают ассоциации с концептуальным искусством. Барри занимался живописью: его картины фигурировали на выставке «Систематическая живопись» в музее Гуггенхейма; с Вейнером его роднит только то, что «путь», ведущий к концептуальному искусству, был связан с выбором художественных материалов и процессов. Предыдущие работы Барри относились к постньюмановско-рейнхардтовским опусам и редуцированы (в плане физических материалов, но не в области смысла): от крошечных живописных картин в два квадратных дюйма к проволоке, натянутой между архитектурными точками, далее — к радиоволнам, инертным газам и, наконец, к «мозговой энергии» Представляется, что они «концептуальны» лишь в той степени, в какой невидим материал. Но искусство Барри обладает физическим статусом и этим отличается от [статуca] работ, существующих исключительно концептуально.
Лоренс Вейнер отказался от живописи весной 1968 года и изменил свое представление о «месте» (в том смысле, какой придал этому термину Карл Андре): из контекста холста (который может обладать всего лишь спецификой) он перешел в «более общий» контекст, продолжая, тем не менее, заботиться о специфике материалов и процессов. Для него очевидно, что если не заботиться о «внешности» (сам он не заботится о ней и в этом смысле предвосхитил многих так называемых антиформалистов), тогда не только отпадет необходимость делания работ (например, в собственной мастерской), но — что более важно — подобное делание вновь поставит их на место, в специфический контекст. Итак, к лету 1968 года Вейнер решил, что его работы будут существовать лишь как предположения в его записной книжке — именно до тех пор, пока некая «причина» (музей, галерея или коллекционер), или, как он сам называл, «получатель», не потребует, чтобы они были реализованы. Как раз поздней осенью того же года Вейнер сделал следующий шаг, решив, что вообще не важно, сделаны его работы или нет. В таком смысле его частные записные книжки и стали общественным достоянием.
Чистое концептуальное искусство впервые последовательно воплотилось в работах Терри Аткинсона и Майкла Болдуина в Ковентри (Англия), а также в моих работах, созданных в Нью- Йорке примерно около 1966 года. Японский художник Он Кавара, с 1959 года непрерывно путешествующий по всему свету, делал глубоко концептуальные работы начиная с 1964 года. Он Кавара начал с картин, сплошь испещренных одним и тем же словом. Затем он перешел к «вопросам» и «кодам», а также к произведениям, состоящим из описания какого-нибудь места в пустыне Сахара при помощи [географической] широты и долготы. Более известны его «картины- даты». Такая картина состоит из нанесенной краской на холст даты того дня, когда она исполнена. Если картина заканчивалась не в тот же день, когда автор ее начинал (т.е. к полуночи), то она уничтожалась. Хотя Кавара и сейчас еще делает «картины-даты» (год он провел, путешествуя по всем странам Южной Америки), в последние два года он занялся и другими проектами. Эти заняли включают «Столетний календарь» — ежедневное перечисление всех людей, с какими он встречался ([оно] ведется в записных книжках, озаглавленыx «Я встретил»), и «Я пошел» — собрание планов городов с обозначением улиц, где он ходил. Ежедневно Он Кавара рассылает и открытки, где сооб- щает время, когда проснулся тем или иным утром. Причины, приведшие Кавару к его искусству, глубоко личные: он сознательно уклоняется от общественного внимания и рекламы в [современном] арт-мире. Мне кажется, что его непрестанные отсылки к «живописи» как средству — не что иное, как шутка, скорее затрагивающая морфологические характеристики традиционного искусства, нежели отражающая его интерес к собственно живописи. Творчество Терри Аткинсона и Майкла Болдуина (они выступают как соавторы) началось в 1966 году и включало такие проекты, как многоугольник, составленный из контурных очертаний штатов Кентукки и Айова (под названием «Карта, не включающая Канаду, залив Джеймса, Онтарио, Квебек, залив св. Лаврентия, Нью- Брунсвик...», и т.д.); концептуальные рисунки, созданные на основе различных серийных концептуальных схем; карта 36-мильного района Тихого океана к западу от Оаху, в масштабе 3 дюйма 1 миле (пустой квадрат). В 1967 году были созданы такие работы, как «Шоу воздушных кондиционеров» и «Шоу воздуха». Последнее, по описанию Терри Аткинсона, представляло «серию высказываний, касающихся возможно теоретического использования воздушной колонны, опирающейся на базу одну квадратную милю и обладающую неопределенными параметрами в вертикальном измерении».
Собственно, никакая конкретная квадратная миля земной поверхности не рассматривалась — концепция не имела привязки к специфической местности. Такие работы, как «Обрамления», «Горячо-холодно» и «22 предложения: французская армия», — образчики самого последнего совместного творчества [этих авторов]. В прошлом году Аткинсон и Болдуин вместе с Дэвидом Бейнбриджем и Гарольдом Харрелом основали издательство «Art & Language Press». Они регулярно издают журнал концептуального искусства «Art & Language» и другие издания, связанные с их изыскательскими проектами.
Кристина Козлов(а) с конца 1966 года также работала в концептуальном плане. Вот лишь некоторые из ее произведений: одно включало «концептуальный» фильм (снятый на чистой пленке Letter); «Композиции для аудио-структур» — система кодов для звука; пачка из нескольких сотен чистых листов бумаги — каждый предназначается для одного дня, когда отвергается какая-то концепция; «Фигуративное произведение» — перечисление всего, что [художница] съела за последние шесть месяцев; исследование преступлений как художественной деятельности. Канадец Иэйн Бакстер с конца 1967 года создавал что-то вроде «концептуальных вещей». Следует назвать здесь и американцев — Джеймса Байарса и Фредерика Бартельма, франко-германских художников Бернара Берне и Ханну Дарбовен. Релевантны и книги, которые примерно в это же время создавал Эдуард Руша. Сюда относятся и некоторые работы Брюса Наумана, Барри Фланагана, Брюса Маклина и Ричарда Лонга. Весьма примечательны «Капсулы времени» Стивена Кальтенбаха 1968 года, а также большинство его позднейших работ. «Разговоры» Иана Уилсона (созданные уже не под влиянием [Алана] Капроу) тоже оформлены концептуально. Германский художник Франц Е.Вальтер начиная примерно с 1965 года трактовал объекты способом, весьма отличным от обычно принятого в (конвенциональном) арт-контексте. К более «концептуальной» форме творчества перешли в последние несколько лет и другие художники (хотя некоторые весьма поверхностно). К подобной деятельности обратился Мел Бохнер, отойдя от произведении, исполненных под сильным влиянием «минималистского» искусства. В рамках «концептуального» творчества, несомненно, может рассматриваться определенная часть работ Йана Диббетса, Эрика Орра, Аллена Руппенберга и Денниса Оппенхейма. В произведениях Дональда Бёрджи <...> также применялся концептуальный формат. Движение в направлении к более чистому концептуальному искусству можно отметить в творчестве молодых художников, недавно начавших свое развитие: это — Сол Остроу, Адриан Панпер, Перпетуа Батлер. С точки зрения указанного чистого смысла интересны вещи, выполненные группой художников, живущих в Нью-Йорке: среди них — австралиец и два англичанина — Иан Бёрн, Мел Рамсден и Роджер Катфорт. (Развлекательные поп-картинки Джона Балдессари хотя и содержат определенные намеки — «концептуальные» карикатуры на подлинное концептуальное искусство, в действительности не имеют отношения к материалу моих рассуждений.)
Терри Аткинсон предположил (и я с ним согласен), что за создание такого окружения, которое сделало возможным восприятие (если не самое создание!) нашего искусства в значительной степени отвечает Сол ЛеВитт. (Однако поспешу добавить, что лично на меня гораздо большее влияние оказал не столько ЛеВитт, сколько Эд Рейнхардт, Дюшан — при посредстве Джонсая 13 Морриса — и Дональд Джадд.) Вероятно, к истории концептуального искусства следует отнести и ранние работы Роберта Морриса, особенно «Папку с карточками» (1962). Важные образцы искусства концептуального типа - многие ранние произведения Раушенберга (например, его «Портрет Айрис Клерт» и «Стертый рисунок Де Кунинга»). В какой-то мере эту историю отражают и европейцы Кляйн и Мандзони. Среди работ Джаспера Джонса (живописные картины из серии «Мишени» и «Флаги», равно как и его пивные банки) мы находим хорошие образчики искусства, существующего как аналитическое высказывание. Джонс и Рейнхардт, — вероятно, последние живописцы, которые были и полноправными артистами. Что же до Роберта Смитсона, то, если бы он признал свои статьи в журналах произведениями искусства (он вполне мог и должен был это сделать), а свои «картины» — всего лишь иллюстрациями к ним, его влияние было бы более релевантным. Андре, Флавин и Джадд оказали огромное влияние на новейшее творчество, хотя, вероятно, скорее как примеры высоких стандартов и ясного мышления, нежели каким-то более специфичным образом. С моей точки зрения, Поллок и Джадд — начало и конец [эпохи] американского господства в искусстве — отчасти вследствие способности многих молодых европейски художников «очиститься» от данной традиции, но более всего потому, что национализм в искусстве столь же неуместен, как и в любой другой сфере. Бывший торговец картинами Сет Зигелауб, который ныне действует как «вольный куратор» и оказался первым, кто специализировался в организации выставок данной разновидности современного искусства, устроил много групповых выставок, не отмеченных нигде (кроме каталога). Зигелауб заявил: «Я заинтересован в пропаганде той идеи, что художник может жить там, где ему нравится: не обязательно в Нью-Йорке, Лондоне или Париже, как это было в прошлом, — действительно, где угодно, и при этом создавать важное искусство».
Предположительно первым моим концептуальным произведением было «Наклонное стекло» (1965). Работа состояла из обычного пятифутового куска стекла, который следовало прислонить к любой стене. Вскоре после этого я заинтересовался водой — из-за ее бесформенности и бесцветности. Я задействовал воду всеми способами, какие только мог придумать: это были куски льда, пар из радиатора, карты с систематическим использованием водных поверхностей, коллекция открыток с изображением тел в воде и т.д., пока в 1966 году не сделал фотоувеличение словарного определения понятия вода в то время для меня это был способ представить самую идею воды. Словарное определение я использовал и раньше (в конце 1965 г.), когда выставил стул, увеличенную фотографию этого стула (хотя немного меньше по размеру), которую прикрепил рядом к стене, и определение слова стул, прикрепленное тут же. Примерно в то же время я сделал серию работ, построенных на отношениях между словами и объектами (концепциями и тем, к чему они относи- лись), и серию работ, которые существовали только как «модели»: простые формы (например, пятифутовый квадрат) с информацией [о том], что его следует понимать как однофутовый квадрат, — это были просто попытки «деобъективизировать» некий объект.
С помощью Кристины Козлов(ой) и пары других лиц в 1967 году я основал «Музей нормального искусства». Это была выставочная площадка, организованная художниками для художников. Сам «Музей» просуществовал всего несколько месяцев. Одной из устроенных в нем выставок было мое первое персональное шоу в Нью-Йорке; я сделал его секретным — в названии стояло: «15 человек представляют свою любимую книгу». Выставка была именно такой, какой обещало ее название. Среди «участников» фигурировали Моррис, Рейнхардт, Смитсон, ЛеВитт и я сам. В связи с шоу я сделал и серию, состоявшую из высказываний художников — о своей работе, об искусстве вообще — она продолжалась и в 1968 году.
Всем своим работам начиная с первого «определения воды» я дал подзаголовок «Искусство как Идея как Идея». Я всегда считал выставление фотокопий [статей из словаря] рабочей формой презентации (или средством [media]), но никогда не хотел, чтобы кто-то думал, будто фотокопии я выставляю как произведения искусства, — вот почему я ввел подобное разграничение и дал все эти подзаголовки. «Словарные работы» развивались от абстракций чего-то особенного {particulars)— например, «Вода» — к абстракциям абстракций (например, «Смысл»). Серию «словарных работ» я завершил в 1968 году. <...> Единственная выставка подобных вещей состоялась в Лос-Анджелесе, в «Галерее 699» (сейчас она закрылась). На выставке я представил дюжину разнообразных определений слова "ничего" [или ничто, nothing], взятых из различных словарей. Вначале фотокопии были откровенными фотокопиями, но со временем их стали принимать за живописные полотна, так что на этом «бесконечная серия» закончилась. Сама идея с фотокопиями заключалась в том, что их можно выбросить, а затем восстановить (если понадобится) как части необязательной процедуры, связанной лишь с формой презентации, но не с самим «искусством». С тех пор как «словарная серия» закончилась, я начал другую серию (или «расследование», как предпочитаю называть свою работу), используя категории из «Тезауруса». Информация представляется через средства рекламы и массовой коммуникации (general advertising media). Это позволяет отделить в моей работе собственно искусство от формы его презентации. В настоящее время я работаю над новым расследованием, связанным с понятием «игры».
(конец цитаты)
Итак, то, что это — искусство, по сути, является чистым внеопытным данным (a priori). Именно это имел в виду Джада, когда сказал: «...ежели кто-нибудь назвал что-нибудь искусством, то это и будет искусство».
Действительно, представляется невозможным обсуждать искусство в общих терминах, без использования тавтологии — ведь пытаться «ухватить» искусство за какую-либо иную «ручку» означает попросту сосредоточиться на другом аспекте или качестве высказывания, обычно не имеющего значения для «состояния искусства» в конкретном артефакте. Начинаешь понимать, что «состояние искусства» — это концептуальное состояние. Тот факт, что языковые формы, в которые художник облекает свои высказывания, подчас есть «частные коды» или языки, неизбежное условие свободы искусства от морфологических ограничений, а из этого следует, что, для того чтобы понимать и оценивать современное искусство, необходимо знакомство с ним.
По аналогии можно понять, почему «простой человек с улицы» столь нетерпим к художественному искусству (artistic art) и всегда требует искусства как традиционного языка. (Теперь понятно, почему формалистическое искусство распродается «как горячие пирожки».) Только в живописи и в скульптуре художники говорили на одном языке. То, что формалисты называют «новаторским искусством» (Novelty Art), есть подчас попытка найти новые языки, хотя [наличие] нового языка вовсе не значит, что он будет оформлять некие новые высказывания (пример: большинство кинетического и электронного искусства).
То, что Айер сформулировал в контексте языка для аналитического метода, по-другому можно приложить и к искусству, т.е. обоснованность высказываний искусства не зависит ни от каких эмпирических (и еще менее от эстетических) допущений относительно природы вещей. Ибо художник, как и аналитик, не связан непосредственно с физическими параметрами вещей. Он заботится только о том, 1) какие возможности имеет искусство для концептуального роста, и 2) как высказывания способны логически следовать за этим ростом. Словом, по характеру высказывания искусства — не фактические, но лингвистические. Это значит, что они не описывают поведение ни физических, ни даже ментальных объектов, а выражают определения искусства или формальные последствия определений искусства. Соответственно мы можем сказать, что искусство оперирует в согласии с логикой. Дальше мы увидим, что характерная особенность чисто логического единства заключается в том, что оно связано с формальными последствиями наших определений (искусства), а вовсе не с проблемами эмпирических фактов.
Повторю снова: с логикой и математикой у искусства есть то общее, что оно суть тавтология, т.е. идея искусства (или произведения) и искусство суть одно и то же и может оцениваться как искусство, не выходя за пределы контекста искусства для какой-либо верификации. С другой стороны, давайте рассмотрим, почему искусство не может быть синтетическим высказыванием (во всяком случае, испытывает большие трудности при попытке быть им). Это значит, что истина или ложность утверждений (искусства) не могут быть проверены эмпирическим путем. Айер заявляет:
Критерий, посредством которого мы определяем основательность априорного или аналитического высказывания, недостаточен для определения основательности эмпирического или синтетического высказывания. Ибо для эмпирических высказываний характерно, что их основательность не является чисто формальной. Заявить что геометрическое высказывание или целая система геометрических высказываний ложны - значит заявить, что они противоречат сами себе. Но эмпирическое высказывание или система эмпирических высказываний могут быть свободны от противоречий и все же быть ложными. Когда говорят, что они ложны, это не значит, что они обладают формальным дефектом, но значит, что они не удовлетворяют какому-то определенному материальному критерию.
Нереальность «реалистического» искусства вытекает из того, что оно оформляется как синтетическое высказывание: зритель постоянно испытывает искушение проверить его
эмпирическим путем. Синтетическое свойство реализма не возвращает нас назад, к вопрошанию в рамках более широкого круга вопросов о природе искусства (в противоположность работам таких художников, как Малевич, Мондриан, Поллок, Рейнхардт, ранний Раушенберг, Джонс, Лихтенштейн, Уорхолл, Андре, Джадд, Флавин, ЛеВитт, Моррис и другие) — скорее мы просто покидаем «орбиту» искусства и оказываемся в «беспредельном пространстве» человеческого существования.
Чистый экспрессионизм можно было бы определить (продолжая пользоваться терминами Айера) так: «Предложение, состоящее только из демонстративных символов, не может быть настоящим высказыванием. Такое предложение могло бы быть простым восклицанием, никоим образом не характеризующим то, к чему оно предположительно относится». Экспрессионистские произведения обычно и есть этакие «восклицания», бытующие в морфологическом языке традиционного искусства. Если Поллок и важен, то только потому, что он писал на незакрепленных кусках холста, расстеленных на полу, горизонтально. Что совершенно не важно у Поллока, так это то, что позже он натягивал свои забрызганные холсты на подрамники и вешал их на стены, вертикально. (Важно то, что художник привносит своего в искусство, а не то, как он адаптируется к существовавшему до него.) И еще меньшее значение для искусства имеют утверждения Поллока о «самовыражении», поскольку само понятие различных субъективных смыслов бесполезно для кого угодно, кто не имел личного контакта с конкретным художником. «Специфичность» подобных понятий решительно оказывается вне контекста искусства.
«Я не делаю искусство, — говорит Ричард Серра. — Я исполняю некую деятельность; если кто-то хочет называть ее искусством, то это их дело — решать тут не мне. Все это обычно выясняется позже». Итак, Серра прекрасно отдает себе отчет о возможных последствиях своей деятельности. Если Серра действительно только «выясняет, как себя ведет свинец» (с точки зрения гравитационной, молекулярной и т.д.), тогда почему кто-то действительно должен считать его деятельность искусством? Если он не берет на себя ответственность за то, что он «делает искусство», кто может (или должен) такую ответственность принять? В самом деле, работы Серра кажутся вполне эмпирически достоверными: свинец способен на многое, поэтому он и используется для различных физических надобностей. Все перечисленное ведет к чему угодно, но только не к диалогу о природе искусства. В определенном смысле слова Серра — примитивист. У него и понятия нет об искусстве. Однако откуда тогда мы знаем о его «деятельности»? Мы знаем потому, что он сообщил нам, что это искусство, — определенными своими поступками, уже после того, как «деятельность» состоялась. То есть он использовал несколько галерей, поместил туда и в музеи некие физические остатки своей «деятельности», а также продал их коллекционерам искусства (впрочем, как мы уже указывали, в определении «состояния искусства» в конкретной работе коллекционеры роли не играют). Итак, отрицая, что его работы есть искусство, и «играя в художника», Серра обозначает нечто большее, чем парадокс. Он тайно ощущает, что к «искусству» приходят эмпирическим путем. Как сказал Айер: «Не существует абсолютно точных эмпирических высказываний. Точны только тавтологии. Эмпирические вопросы, все как один, суть гипотезы, которые могут быть подтверждены или опровергнуты в реальном чувственном опыте. И высказывания, в которых мы оформляем наблюдения, подтверждающие эти гипотезы, сами по себе тоже являются гипотезами, которые должны быть подвергнуты дальнейшей проверке чувственным опытом. Поэтому нет окончательных высказываний».
В сочинениях Эда Рейнхардта можно найти весьма близкое понятие — искусство как искусство — и тезис о том, что «всякое искусство всегда мертво, живое искусство — это обман» [23]. Рейнхардт очень хорошо представлял себе природу искусства. Его истинное значение до сих пор не оценено. Формы искусства, которые можно считать синтетическими высказываниями, подтверждаются всем миром, т.е. чтобы понять эти высказывания, необходимо выйти за тавтологический предел искусства и рассмотреть «внешнюю» информацию. Однако чтобы рассматривать их как искусство, эту внешнюю информацию необходимо игнорировать, поскольку внешняя информация (например, качества, добываемые экспериментальным путем) имеет свою собственную внутреннюю ценность. Чтобы осознать эту ценность, совсем не нужно прибегать к «состоянию искусства».
Отсюда легко осознать, что жизнеспособность искусства не связана с презентацией визуального (или любого другого) [человеческого] переживания. Вполне возможно, что в предшествовавшие века одна из внешних функций искусства была именно такова. В конце концов, даже в XIX столетии человек обитал в довольно стандартном визуальном окружении. То есть обычно можно было с известной легкостью предсказать, с чем человек будет вступать в контакт изо дня в день: в той части мира, в которой жил конкретный человек, визуальное окружение было относительно постоянным. В наше время, напротив, экспериментальное окружение [человека] чрезвычайно обогатилось. Вокруг земного шара можно облететь за какие-нибудь часы и дни (а не месяцы, как прежде). У нас есть кино, цветное телевидение, равно как и рукотворные чудеса — световые шоу Лас-Вегаса или нью-йоркские небоскребы. Весь мир доступен для обозрения, и, с другой стороны, весь мир может увидеть человека на поверхности Луны, не выходя из своих квартир. Разумеется, никто не ожидает, что объекты живописи и скульптуры смогут визуально и экспериментально состязаться со всем этим.
Понятие «пользы» тоже релевантно и для искусства, и для его «языка». Совсем недавно коробка или куб использовались в контексте искусства довольно много (сравните, например, эти формы у Джадда, Морриса, ЛеВитта, Бладена, Смита, Белла и Мак-Кракена, не говоря уже об изобилии коробок и кубов, созданных после). Различие между столь разнообразными применениями формы коробки или куба прямо связано с различиями в намерениях авторов-художников. Более того, использование коробки или куба (особенно у Джадда) хорошо иллюстрирует наше утверждение о том, что объект только тогда становится искусством, когда он помещается в контекст искусства. Несколько примеров прояснят данное положение. Можно утверждать, что если одну из коробок Джадда наполнить мусором и поместить в индустриальную среду (и даже просто поставить на улицу), то она не идентифицировалась бы как искусство. Отсюда следует, что понимание и осмысление ее как произведения искусства будет лишь априорным и должно предшествовать непосредственному рассмотрению ее как артефакта. Для оценки и понимания современного (contemporary) искусства необходима предварительная информация о понятии искусства и о концепциях конкретного художника. Любой отдельный физический атрибут (качество) или даже совокупность всех атрибутов произведений современного искусства для концепции искусства совершенно не важны. Концепция искусства, как сказал Джадд (хотя и имел в виду другое), должна восприниматься как нечто целостное. Рассматривать элементы концепции значит всегда рассматривать аспекты, не существенные для «состояния искусства», — это все равно, что читать отдельные слова высказывания.
Поэтому не станет неожиданностью утверждение, что искусство с наименее закрепленной морфологией — это и есть тот пример, откуда мы выводим природу обобщающего понятия искусство.Ведь там, где есть контекст, существующий независимо от морфологии [искусства] и включающий его функцию, именно там и можно ожидать наименее предсказуемый, нонконформистский результат. Именно потому, что современное [модернистское] искусство обладает «языком» с самой короткой историей, потому-то обоснованный отказ от данного «языка» и становится наиболее возможным. Отсюда понятно, что искусство, коренящееся в западной (европейской) живописи и скульптуре, из всех общих концепций «искусства» наименее самонадеянно и наиболее энергично действует в вопрошании о природе искусства. Впрочем, в конечном итоге все виды искусства обладают (в терминах Витгенштейна) всего лишь фамильным сходством. Однако разнообразие качеств, связанных с «состоянием искусства» (каковыми обладают, например, поэзия, роман, кино, театр и различные виды музыки и т.д.), и есть тот их аспект, который в определении функции искусства (какой она понимается на данных страницах) наиболее надежен.
Разве упадок поэзии не связан с имплицитной метафизикой, заключенной в употреблении «обычного» языка как языка искусства? В Нью-Йорке последней декадентской фазой поэзии можно считать недавний переход «конкретных» поэтов к использованию реальных предметов и театра. Может быть, они чувствуют нереальность своей собственной художественной формы?
«Мы видим теперь, что аксиомы геометрии суть простые определения и что геометрические теоремы есть просто логические следствия этих определений. Сама по себе геометрия не связана с физическим пространством; нельзя сказать, "о чем" толкует геометрия. Но мы можем использовать геометрию, чтобы анализировать физическое пространство. Иными словами, как только мы придаем аксиомам физическую интерпретацию, мы можем применять теоремы и к объектам, которые удовлетворяют требованиям аксиом. Может ли геометрия быть применена к реальному физическому миру или нет — это эмпирический вопрос, находящийся за пределами исследования самой геометрии. Потому нет смысла вопрошать, какие из известных нам разновидностей геометрии истинны, а какие ложны. Истинны все — в той степени, в какой они свободны от противоречий. Высказывание, утверждающее, что возможно некое определенное применение геометрии, является высказыванием, не относящимся к самой геометрии. Все, что говорит нам сама геометрия, это то, что если что-то можно подвести под определения, то оно также будет соответствовать теоремам. Таким образом, геометрия — это чисто логическая система, и ее высказывания являются чистыми аналитическими высказываниями». (А. Дж. Айер)
Я предполагаю, что именно здесь и кроется жизнеспособность искусства. В эпоху, когда традиционная философия вследствие ее собственных допущений нереальна, способность искусства к существованию будет зависеть не только от его способности не исполнять какую-то службу — например, развлекать, передавать визуальный (или какой-то иной) опыт или украшать, — во всех этих качествах его легко заменяют культура и технология китча; искусство будет жизнеспособным, только не занимая философскую позицию. Уникальный характер искусства заключен в его способности оставаться по отношению ко всем философским суждениям «подвешенным». Именно в таком контексте искусство обнаруживает сходство с наукой — с логикой, математикой, и т.д. Но в то время как все остальные виды деятельности полезны, искусство бесполезно. На самом деле искусство существует только для себя.
В данный период [существования] человека искусство, быть может, единственное (после философии и религии) дерзание, удовлетворяющее то, что в иные времена называли «человеческими духовными потребностями». Можно сказать иначе: искусство адекватно реагирует на то состояние вещей «по ту сторону физики», где философия вынуждена ограничиваться лишь допущениями. И сила искусства в том, что даже предыдущее высказывание есть допущение, которое не может быть им подтверждено. Искусство — это единственное, на что претендует искусство. Искусство есть определение искусства.
II. «Концептуальное искусство» и новейшее искусство
«Разочарование в живописи и скульптуре — это отсутствие интереса к тому, чтобы делать все заново, а не разочарование в них самих — как их делают те, кто разработал самые последние продвинутые разновидности. Новая работа всегда включает противостояние старой. Это противостояние включено в работу. Если более ранняя работа первоклассна, то она завершена в себе» (Дональд Джадд, 1965).
«Абстрактное искусство, или неизобразительное искусство, так же старо, как и сам этот век, и хотя оно более специализировано, чем предыдущее искусство, оно более чистое и более завершенное: и как любая современная мысль или область знания, оно более требовательно в своем охвате человеческих отношений» (Эд Рейнхардт, 1948)
"Во Франции есть старая поговорка: "Глуп, как художник". Художников всегда считали глупыми, а поэтов и писателей всегда считали очень умными. Я хотел быть умным. Мне пришлось заниматься изобретениям. Нет смысла делать то, что делал твой родной отец. Нет смысла быть еще одним Сезанном. В "визуальном" периоде есть еще немного от глупости художника. Все мои работы в тот период до «Обнаженной», были визуальной живописью. А затем у меня родилась идея. Я придумал идеальную формулировку способа избавиться от всех влияний» (Марсель Дюшан)
«Хотя всякое произведение искусства становится физическим явлением, есть и такие, которые этого не делают» (Сол ЛеВитт).
«Основное достоинство геометрических форм в том. что они не органичны, как все прочее искусство. Если бы придумать форму, которая бы не была ни геометрической, ни органической, это было бы великое открытие» (Дональд Джадд, 1967)
«Единственное, что можно сказать об искусстве, — это его бездыханность, безжизненность, бессмертность, бессодержательность, бесформенность, беспро-странственность, безвременность. А это всегда означает конец искусства» (Эд Рейнхардт. 1962).
ПРИМЕЧАНИЕ Вся дискуссия в предшествовавшей части [статьи] не просто оправдывала право новейшего искусства называться «концептуальным». В ней отразилось, как мне кажется, и некоторое смятение ума, связанное с прошлыми (и в особенности с современными) тенденциями развития искусства. Данная статья не должна свидетельствовать о каком-то «движении». Но как один из первых представителей (посредством и творчества, и разговоров) той разновидности искусства, которую лучше всего описывает термин «концептуальное искусство», я все более беспокоюсь относительно совершенно произвольного применения данного термина к искусству, обладающему самыми широкими интересами, и ко многим из них я никогда не желал бы (и логически отнюдь не обязан) обращаться.
Самое «чистое» определение концептуального искусства заключается в том, что это — исследование основ понятия «искусство» и того, что оно стало означать. Как и большинство терминов с довольно своеобразным наполнением, «концептуальное искусство» часто рассматривается как тенденция. Разумеется, в определенном смысле это и есть тенденция, потому что определение «концептуального искусства» весьма близко к смыслу понятия искусства как такового.
Но аргументация подобного понимания тенденции, к моему величайшему сожалению, все еще обусловлена ошибками морфологической характеристики, сопрягающей то, что [на самом деле] является разнохарактерными видами деятельности. В нашем случае это означает попытку выделить стилевые характеристики (slylehood). Допуская первичность причинно-следственных отношений, ведущих к «окончательным последствиям», такая критика не замечает изначальных намерений (концепций) художника и занимается исключительно его «конечным продуктом». В действительности значительная часть критики занимается только поверхностным аспектом этого «конечного продукта», а именно очевидной нематериальностью или «антиобъектным» сходством большинства «концептуальных» произведений искусства. Но все это может быть существенным лишь в том случае, ежели допустить, что объекты необходимо важны для искусства или, лучше сказать, что они имеют недвусмысленную связь с искусством. В таком случае указанная выше критика будет концентрироваться на негативном аспекте искусства.
Если читатель следил за ходом рассуждений в первой части [статьи], то он может понять мое утверждение, что концептуально объекты безразличны по отношению к состоянию искусства. Это вовсе не значит, что какое-то конкретное «исследование искусства» может или не может использовать в рамках предпринятого исследования объекты, материальные субстанции и т.д. Конечно, исследования и разработки, например, Бейнбриджа или Хэррела—превосходные образчики такого использования [27]. Хотя я и предположил, что всякое искусство в конечном итоге концептуально, некоторые из последних работ концептуальны по намерению, в то время как иные образцы новейшего искусства связаны с концептуальным творчеством лишь весьма поверхностно. И, несмотря на то, что многие последние работы в большинстве своем суть прогресс по отношению к «формалистским» или "антиформалистским" тенденциям (Моррис, Серра, Сонье, Гессе и др.), их не следует рассматривать как концептуальное искусство в более точном смысле слова.
Трое художников, которые наиболее часто ассоциируются со мной (в частности в проектах Сета Зигелауба), — Дуглас Хюблер, Роберт Барри и Лоренс Вейнер, — по-моему, не связаны с концептуальным искусством, каким оно определялось выше. Дуглас Хюблер, участвовавший в выставке «Первичные структуры» в Еврейском музее (Нью-Йорк), использует неморфологическую искусствоподобную форму презентации (фотографии, карты, почтовые отправления) для трактовки иконических, структурных, скульптурных проблем, непосредственно вытекающих из его собственных скульптур из ламинатных пластиков (он исполнял их даже в 1968 г.). Сам художник указывает на это в своем предисловии к каталогу персональной выставки (она была организована Сетом Зигелаубом и существовала только в виде документирующего каталога): «Существование каждой скульптуры документируется ее документацией». Все это я привел не для того, чтобы подчеркнуть негативный аспект подобной работы, — я лишь показываю, что у Хюблера (ему сейчас далеко за сорок — он значительно старше, чем большинство рассматриваемых здесь художников) нет тех целей и задач, которые бы сближали его с концептуальным искусством в его наиболее чистой и наиболее распространенной разновидности.
Другие художники — Роберт Барри и Лоренс Вейнер — наблюдали, как их работы, можно сказать, по чистой случайности вызывают ассоциации с концептуальным искусством. Барри занимался живописью: его картины фигурировали на выставке «Систематическая живопись» в музее Гуггенхейма; с Вейнером его роднит только то, что «путь», ведущий к концептуальному искусству, был связан с выбором художественных материалов и процессов. Предыдущие работы Барри относились к постньюмановско-рейнхардтовским опусам и редуцированы (в плане физических материалов, но не в области смысла): от крошечных живописных картин в два квадратных дюйма к проволоке, натянутой между архитектурными точками, далее — к радиоволнам, инертным газам и, наконец, к «мозговой энергии» Представляется, что они «концептуальны» лишь в той степени, в какой невидим материал. Но искусство Барри обладает физическим статусом и этим отличается от [статуca] работ, существующих исключительно концептуально.
Лоренс Вейнер отказался от живописи весной 1968 года и изменил свое представление о «месте» (в том смысле, какой придал этому термину Карл Андре): из контекста холста (который может обладать всего лишь спецификой) он перешел в «более общий» контекст, продолжая, тем не менее, заботиться о специфике материалов и процессов. Для него очевидно, что если не заботиться о «внешности» (сам он не заботится о ней и в этом смысле предвосхитил многих так называемых антиформалистов), тогда не только отпадет необходимость делания работ (например, в собственной мастерской), но — что более важно — подобное делание вновь поставит их на место, в специфический контекст. Итак, к лету 1968 года Вейнер решил, что его работы будут существовать лишь как предположения в его записной книжке — именно до тех пор, пока некая «причина» (музей, галерея или коллекционер), или, как он сам называл, «получатель», не потребует, чтобы они были реализованы. Как раз поздней осенью того же года Вейнер сделал следующий шаг, решив, что вообще не важно, сделаны его работы или нет. В таком смысле его частные записные книжки и стали общественным достоянием.
Чистое концептуальное искусство впервые последовательно воплотилось в работах Терри Аткинсона и Майкла Болдуина в Ковентри (Англия), а также в моих работах, созданных в Нью- Йорке примерно около 1966 года. Японский художник Он Кавара, с 1959 года непрерывно путешествующий по всему свету, делал глубоко концептуальные работы начиная с 1964 года. Он Кавара начал с картин, сплошь испещренных одним и тем же словом. Затем он перешел к «вопросам» и «кодам», а также к произведениям, состоящим из описания какого-нибудь места в пустыне Сахара при помощи [географической] широты и долготы. Более известны его «картины- даты». Такая картина состоит из нанесенной краской на холст даты того дня, когда она исполнена. Если картина заканчивалась не в тот же день, когда автор ее начинал (т.е. к полуночи), то она уничтожалась. Хотя Кавара и сейчас еще делает «картины-даты» (год он провел, путешествуя по всем странам Южной Америки), в последние два года он занялся и другими проектами. Эти заняли включают «Столетний календарь» — ежедневное перечисление всех людей, с какими он встречался ([оно] ведется в записных книжках, озаглавленыx «Я встретил»), и «Я пошел» — собрание планов городов с обозначением улиц, где он ходил. Ежедневно Он Кавара рассылает и открытки, где сооб- щает время, когда проснулся тем или иным утром. Причины, приведшие Кавару к его искусству, глубоко личные: он сознательно уклоняется от общественного внимания и рекламы в [современном] арт-мире. Мне кажется, что его непрестанные отсылки к «живописи» как средству — не что иное, как шутка, скорее затрагивающая морфологические характеристики традиционного искусства, нежели отражающая его интерес к собственно живописи. Творчество Терри Аткинсона и Майкла Болдуина (они выступают как соавторы) началось в 1966 году и включало такие проекты, как многоугольник, составленный из контурных очертаний штатов Кентукки и Айова (под названием «Карта, не включающая Канаду, залив Джеймса, Онтарио, Квебек, залив св. Лаврентия, Нью- Брунсвик...», и т.д.); концептуальные рисунки, созданные на основе различных серийных концептуальных схем; карта 36-мильного района Тихого океана к западу от Оаху, в масштабе 3 дюйма 1 миле (пустой квадрат). В 1967 году были созданы такие работы, как «Шоу воздушных кондиционеров» и «Шоу воздуха». Последнее, по описанию Терри Аткинсона, представляло «серию высказываний, касающихся возможно теоретического использования воздушной колонны, опирающейся на базу одну квадратную милю и обладающую неопределенными параметрами в вертикальном измерении».
Собственно, никакая конкретная квадратная миля земной поверхности не рассматривалась — концепция не имела привязки к специфической местности. Такие работы, как «Обрамления», «Горячо-холодно» и «22 предложения: французская армия», — образчики самого последнего совместного творчества [этих авторов]. В прошлом году Аткинсон и Болдуин вместе с Дэвидом Бейнбриджем и Гарольдом Харрелом основали издательство «Art & Language Press». Они регулярно издают журнал концептуального искусства «Art & Language» и другие издания, связанные с их изыскательскими проектами.
Кристина Козлов(а) с конца 1966 года также работала в концептуальном плане. Вот лишь некоторые из ее произведений: одно включало «концептуальный» фильм (снятый на чистой пленке Letter); «Композиции для аудио-структур» — система кодов для звука; пачка из нескольких сотен чистых листов бумаги — каждый предназначается для одного дня, когда отвергается какая-то концепция; «Фигуративное произведение» — перечисление всего, что [художница] съела за последние шесть месяцев; исследование преступлений как художественной деятельности. Канадец Иэйн Бакстер с конца 1967 года создавал что-то вроде «концептуальных вещей». Следует назвать здесь и американцев — Джеймса Байарса и Фредерика Бартельма, франко-германских художников Бернара Берне и Ханну Дарбовен. Релевантны и книги, которые примерно в это же время создавал Эдуард Руша. Сюда относятся и некоторые работы Брюса Наумана, Барри Фланагана, Брюса Маклина и Ричарда Лонга. Весьма примечательны «Капсулы времени» Стивена Кальтенбаха 1968 года, а также большинство его позднейших работ. «Разговоры» Иана Уилсона (созданные уже не под влиянием [Алана] Капроу) тоже оформлены концептуально. Германский художник Франц Е.Вальтер начиная примерно с 1965 года трактовал объекты способом, весьма отличным от обычно принятого в (конвенциональном) арт-контексте. К более «концептуальной» форме творчества перешли в последние несколько лет и другие художники (хотя некоторые весьма поверхностно). К подобной деятельности обратился Мел Бохнер, отойдя от произведении, исполненных под сильным влиянием «минималистского» искусства. В рамках «концептуального» творчества, несомненно, может рассматриваться определенная часть работ Йана Диббетса, Эрика Орра, Аллена Руппенберга и Денниса Оппенхейма. В произведениях Дональда Бёрджи <...> также применялся концептуальный формат. Движение в направлении к более чистому концептуальному искусству можно отметить в творчестве молодых художников, недавно начавших свое развитие: это — Сол Остроу, Адриан Панпер, Перпетуа Батлер. С точки зрения указанного чистого смысла интересны вещи, выполненные группой художников, живущих в Нью-Йорке: среди них — австралиец и два англичанина — Иан Бёрн, Мел Рамсден и Роджер Катфорт. (Развлекательные поп-картинки Джона Балдессари хотя и содержат определенные намеки — «концептуальные» карикатуры на подлинное концептуальное искусство, в действительности не имеют отношения к материалу моих рассуждений.)
Терри Аткинсон предположил (и я с ним согласен), что за создание такого окружения, которое сделало возможным восприятие (если не самое создание!) нашего искусства в значительной степени отвечает Сол ЛеВитт. (Однако поспешу добавить, что лично на меня гораздо большее влияние оказал не столько ЛеВитт, сколько Эд Рейнхардт, Дюшан — при посредстве Джонсая 13 Морриса — и Дональд Джадд.) Вероятно, к истории концептуального искусства следует отнести и ранние работы Роберта Морриса, особенно «Папку с карточками» (1962). Важные образцы искусства концептуального типа - многие ранние произведения Раушенберга (например, его «Портрет Айрис Клерт» и «Стертый рисунок Де Кунинга»). В какой-то мере эту историю отражают и европейцы Кляйн и Мандзони. Среди работ Джаспера Джонса (живописные картины из серии «Мишени» и «Флаги», равно как и его пивные банки) мы находим хорошие образчики искусства, существующего как аналитическое высказывание. Джонс и Рейнхардт, — вероятно, последние живописцы, которые были и полноправными артистами. Что же до Роберта Смитсона, то, если бы он признал свои статьи в журналах произведениями искусства (он вполне мог и должен был это сделать), а свои «картины» — всего лишь иллюстрациями к ним, его влияние было бы более релевантным. Андре, Флавин и Джадд оказали огромное влияние на новейшее творчество, хотя, вероятно, скорее как примеры высоких стандартов и ясного мышления, нежели каким-то более специфичным образом. С моей точки зрения, Поллок и Джадд — начало и конец [эпохи] американского господства в искусстве — отчасти вследствие способности многих молодых европейски художников «очиститься» от данной традиции, но более всего потому, что национализм в искусстве столь же неуместен, как и в любой другой сфере. Бывший торговец картинами Сет Зигелауб, который ныне действует как «вольный куратор» и оказался первым, кто специализировался в организации выставок данной разновидности современного искусства, устроил много групповых выставок, не отмеченных нигде (кроме каталога). Зигелауб заявил: «Я заинтересован в пропаганде той идеи, что художник может жить там, где ему нравится: не обязательно в Нью-Йорке, Лондоне или Париже, как это было в прошлом, — действительно, где угодно, и при этом создавать важное искусство».
Предположительно первым моим концептуальным произведением было «Наклонное стекло» (1965). Работа состояла из обычного пятифутового куска стекла, который следовало прислонить к любой стене. Вскоре после этого я заинтересовался водой — из-за ее бесформенности и бесцветности. Я задействовал воду всеми способами, какие только мог придумать: это были куски льда, пар из радиатора, карты с систематическим использованием водных поверхностей, коллекция открыток с изображением тел в воде и т.д., пока в 1966 году не сделал фотоувеличение словарного определения понятия вода в то время для меня это был способ представить самую идею воды. Словарное определение я использовал и раньше (в конце 1965 г.), когда выставил стул, увеличенную фотографию этого стула (хотя немного меньше по размеру), которую прикрепил рядом к стене, и определение слова стул, прикрепленное тут же. Примерно в то же время я сделал серию работ, построенных на отношениях между словами и объектами (концепциями и тем, к чему они относи- лись), и серию работ, которые существовали только как «модели»: простые формы (например, пятифутовый квадрат) с информацией [о том], что его следует понимать как однофутовый квадрат, — это были просто попытки «деобъективизировать» некий объект.
С помощью Кристины Козлов(ой) и пары других лиц в 1967 году я основал «Музей нормального искусства». Это была выставочная площадка, организованная художниками для художников. Сам «Музей» просуществовал всего несколько месяцев. Одной из устроенных в нем выставок было мое первое персональное шоу в Нью-Йорке; я сделал его секретным — в названии стояло: «15 человек представляют свою любимую книгу». Выставка была именно такой, какой обещало ее название. Среди «участников» фигурировали Моррис, Рейнхардт, Смитсон, ЛеВитт и я сам. В связи с шоу я сделал и серию, состоявшую из высказываний художников — о своей работе, об искусстве вообще — она продолжалась и в 1968 году.
Всем своим работам начиная с первого «определения воды» я дал подзаголовок «Искусство как Идея как Идея». Я всегда считал выставление фотокопий [статей из словаря] рабочей формой презентации (или средством [media]), но никогда не хотел, чтобы кто-то думал, будто фотокопии я выставляю как произведения искусства, — вот почему я ввел подобное разграничение и дал все эти подзаголовки. «Словарные работы» развивались от абстракций чего-то особенного {particulars)— например, «Вода» — к абстракциям абстракций (например, «Смысл»). Серию «словарных работ» я завершил в 1968 году. <...> Единственная выставка подобных вещей состоялась в Лос-Анджелесе, в «Галерее 699» (сейчас она закрылась). На выставке я представил дюжину разнообразных определений слова "ничего" [или ничто, nothing], взятых из различных словарей. Вначале фотокопии были откровенными фотокопиями, но со временем их стали принимать за живописные полотна, так что на этом «бесконечная серия» закончилась. Сама идея с фотокопиями заключалась в том, что их можно выбросить, а затем восстановить (если понадобится) как части необязательной процедуры, связанной лишь с формой презентации, но не с самим «искусством». С тех пор как «словарная серия» закончилась, я начал другую серию (или «расследование», как предпочитаю называть свою работу), используя категории из «Тезауруса». Информация представляется через средства рекламы и массовой коммуникации (general advertising media). Это позволяет отделить в моей работе собственно искусство от формы его презентации. В настоящее время я работаю над новым расследованием, связанным с понятием «игры».
(конец цитаты)
