ФОТОГРАФИЯ И ПЕРФОРМАНС
Почему тема взаимосвязи фотографии и перформанса становится актуальной?
Прецеденты изменения границ искусства возникают постоянно.
История искусства второй половины XX века – это, прежде всего, история радикального отрицания эстетической функции произведения искусства, замены образа концепцией, смещения акцента от результата творчества к его процессу. Процессуальное искусство, или искусство действия, в этот период обнаруживает потенциал экспериментальной лаборатории самых оригинальных и радикальных форм творческой активности. Искусство перформанса становится платформой для поиска и разработки нестандартных решений, способствует обновлению других форм искусства. Выполняя роль пространства для синтеза различных жанров и выразительных средств, предлагая новые способы взаимодействия с социальной реальностью, перформанс утверждается в качестве самостоятельной формы художественной деятельности, открывающей новые возможности для исследования природы и функции искусства.
Центральную роль в эстетике перформативности играет искусство преодоления границ. Это объясняется тем, что эта эстетика непрестанно стремится преодолеть границы, воздвигнутые в конце XVIII века и считавшиеся с тех пор непреодолимыми и установленными природой, и в этом смысле естественными – разграничение между искусством и жизнью, между высокой и массовой культурой, между искусством западной культуры и искусством других культур, не приемлющих концепцию автономии искусства. Отсюда следует, что эстетика перформативности по-новому подходит к понятию границы.
Если раньше это понятие прежде всего подразумевает разделение, разграничивание,принципиальное различие, то в эстетике перформативности оно понимается а первую очередь как преодоление границы и как переход.
Граница превращается в порог, в переходное пространство, которое не разделяет, а соединяет. (“Эстетика перформативности” Эрика Фишер-Лихте)
Почему тема взаимосвязи фотографии и перформанса становится актуальной?
Прецеденты изменения границ искусства возникают постоянно.
История искусства второй половины XX века – это, прежде всего, история радикального отрицания эстетической функции произведения искусства, замены образа концепцией, смещения акцента от результата творчества к его процессу. Процессуальное искусство, или искусство действия, в этот период обнаруживает потенциал экспериментальной лаборатории самых оригинальных и радикальных форм творческой активности. Искусство перформанса становится платформой для поиска и разработки нестандартных решений, способствует обновлению других форм искусства. Выполняя роль пространства для синтеза различных жанров и выразительных средств, предлагая новые способы взаимодействия с социальной реальностью, перформанс утверждается в качестве самостоятельной формы художественной деятельности, открывающей новые возможности для исследования природы и функции искусства.
Центральную роль в эстетике перформативности играет искусство преодоления границ. Это объясняется тем, что эта эстетика непрестанно стремится преодолеть границы, воздвигнутые в конце XVIII века и считавшиеся с тех пор непреодолимыми и установленными природой, и в этом смысле естественными – разграничение между искусством и жизнью, между высокой и массовой культурой, между искусством западной культуры и искусством других культур, не приемлющих концепцию автономии искусства. Отсюда следует, что эстетика перформативности по-новому подходит к понятию границы.
Если раньше это понятие прежде всего подразумевает разделение, разграничивание,принципиальное различие, то в эстетике перформативности оно понимается а первую очередь как преодоление границы и как переход.
Граница превращается в порог, в переходное пространство, которое не разделяет, а соединяет. (“Эстетика перформативности” Эрика Фишер-Лихте)
Но связь фотографии и перформанса в 60-70 гг. была неоднозначна.
Генри Сэйр, анализируя тенденцию смещения интереса художников 60-70-х от объекта к процессу, в своей книге «The Object of Performance/Объект перформанса» определяет перформанс и перформанс-ориентированные жанры как «художественные стратегии, задуманные, подобно концептуальному искусству, для того, чтобы преодолеть, или хотя бы смягчить привычку к эксплуатации материального в искусстве». (Крылова Екатерина Владимировна Экзистенциальный перформанс как радикальный опыт осмысления границ современного искусства. PГГУ, Факультет истории искусства, Москва, 2011)
При том, что перформанс манифестировал преодоление границ, стремление к дематериализации ограничело его свободное слияние с фотографией.
Поэтому фотография и перформанс стали своеобразными бинарными опозициями в 60-70гг. Хотя их взаимодействие всегда присутствовало.
В 1994 году происходит смена парадигмы ценности нематериального объекта, Джеймс Ли Байерс передает в дар Кельнскому музею свою работу “The perfect smile”, и так нематериальный объект присваивается музеем.
Таким образом нематериальное обретает материальную ценность.
Затем Монреальский музей современного искусства приобретает две известные работы Тино Сегала в свою коллекцию: «Поцелуй» 2002 года и «Ситуацию» 2007.
Теперь в поле зрения исследователей оказались перформативные черты культуры, до тех пор главным образом оставшиеся вне фокуса интереса. Эта смена перспективы сделала возможным новый, независимый подход в изучении реально или потенциально существующих действительностей, имевших практическую направленность. Обращение к перформативным чертам культуры позволило раскрыть специфичный характер действий и событий в области культуры, не поддающихся описанию в рамках традиционной текстовой модели.
Это развитие привело к возникновению метафоры “культура как перформанс”. Таким образом, возникла необходимость в пересмотре понятия перформативности и разработке новой концепции, включающей в себя телесные действия.
В 2016 проходит выставка “Performance for the Camera”, в которой переосмысляется взаимовлияние фотографии и перформанса.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Тема документации перформанса до сих пор неоднозначна, поскольку перформанс с одной стороны – это живой процесс, событие, а с другой стороны возникает необходимость архивировать и сохранить его. Поэтому перформанс часто включает в себя фотографию. В данном контексте дистанция между фотографией и перформансом разная, но она всегда возникает. Художники либо включают документацию в перформанс, и тогда фотография становится частью работы, либо запрещают документировать, и отсутсвие фотографии тоже становится частью работы.
Когда мы рассматриваем документацию некоторых перформансов, то возникает вопрос: какова роль фотографа, он только фиксирует событие или в какой-то момент становится со-автором, поскольку конструирует репрезентацию работы? Граница автортсва в некоторых случаях неоднозначна. Интенция перформеров 60-70гг. была усилить живой процесс и редуцировать материальную сторону художественного жеста, поэтому не всегда репрезентация продумывалась в деталях перформером. В то же время, у нас нет возможности сейчас прожить процесс вместе с перформерами и наблюдать перформанс, но есть фотография. И если говорить о нашем знании и ощущении от большинства перформансов, то можно предположить, что существует неизбежный разрыв, который сокращает или наоборот усиливает фотограф, документирующий перформанс.
Пегги Фелан в 1993 году написала, что перформанс существует только в настоящем, c её точки зрения зафиксировать перформанс невозможно, она сравнивает перформанс с камнем упавшим в воду, а документацию с рябью на воде. В самом перформативном высказывании заложена определенная тенденция к саморазрушению. Но есть и другая точка зрения.
Амелия Джонс в своем исследовании “Присутствие” в отсутствии” пишет: “Мне не было 3 лет, я жила в Северной Каролине, когда Кароли Шнееманн сделала перформанс “Meat Joy” на Фестивале Свободного Выражения в Париже в 1964;
Генри Сэйр, анализируя тенденцию смещения интереса художников 60-70-х от объекта к процессу, в своей книге «The Object of Performance/Объект перформанса» определяет перформанс и перформанс-ориентированные жанры как «художественные стратегии, задуманные, подобно концептуальному искусству, для того, чтобы преодолеть, или хотя бы смягчить привычку к эксплуатации материального в искусстве». (Крылова Екатерина Владимировна Экзистенциальный перформанс как радикальный опыт осмысления границ современного искусства. PГГУ, Факультет истории искусства, Москва, 2011)
При том, что перформанс манифестировал преодоление границ, стремление к дематериализации ограничело его свободное слияние с фотографией.
Поэтому фотография и перформанс стали своеобразными бинарными опозициями в 60-70гг. Хотя их взаимодействие всегда присутствовало.
В 1994 году происходит смена парадигмы ценности нематериального объекта, Джеймс Ли Байерс передает в дар Кельнскому музею свою работу “The perfect smile”, и так нематериальный объект присваивается музеем.
Таким образом нематериальное обретает материальную ценность.
Затем Монреальский музей современного искусства приобретает две известные работы Тино Сегала в свою коллекцию: «Поцелуй» 2002 года и «Ситуацию» 2007.
Теперь в поле зрения исследователей оказались перформативные черты культуры, до тех пор главным образом оставшиеся вне фокуса интереса. Эта смена перспективы сделала возможным новый, независимый подход в изучении реально или потенциально существующих действительностей, имевших практическую направленность. Обращение к перформативным чертам культуры позволило раскрыть специфичный характер действий и событий в области культуры, не поддающихся описанию в рамках традиционной текстовой модели.
Это развитие привело к возникновению метафоры “культура как перформанс”. Таким образом, возникла необходимость в пересмотре понятия перформативности и разработке новой концепции, включающей в себя телесные действия.
В 2016 проходит выставка “Performance for the Camera”, в которой переосмысляется взаимовлияние фотографии и перформанса.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Тема документации перформанса до сих пор неоднозначна, поскольку перформанс с одной стороны – это живой процесс, событие, а с другой стороны возникает необходимость архивировать и сохранить его. Поэтому перформанс часто включает в себя фотографию. В данном контексте дистанция между фотографией и перформансом разная, но она всегда возникает. Художники либо включают документацию в перформанс, и тогда фотография становится частью работы, либо запрещают документировать, и отсутсвие фотографии тоже становится частью работы.
Когда мы рассматриваем документацию некоторых перформансов, то возникает вопрос: какова роль фотографа, он только фиксирует событие или в какой-то момент становится со-автором, поскольку конструирует репрезентацию работы? Граница автортсва в некоторых случаях неоднозначна. Интенция перформеров 60-70гг. была усилить живой процесс и редуцировать материальную сторону художественного жеста, поэтому не всегда репрезентация продумывалась в деталях перформером. В то же время, у нас нет возможности сейчас прожить процесс вместе с перформерами и наблюдать перформанс, но есть фотография. И если говорить о нашем знании и ощущении от большинства перформансов, то можно предположить, что существует неизбежный разрыв, который сокращает или наоборот усиливает фотограф, документирующий перформанс.
Пегги Фелан в 1993 году написала, что перформанс существует только в настоящем, c её точки зрения зафиксировать перформанс невозможно, она сравнивает перформанс с камнем упавшим в воду, а документацию с рябью на воде. В самом перформативном высказывании заложена определенная тенденция к саморазрушению. Но есть и другая точка зрения.
Амелия Джонс в своем исследовании “Присутствие” в отсутствии” пишет: “Мне не было 3 лет, я жила в Северной Каролине, когда Кароли Шнееманн сделала перформанс “Meat Joy” на Фестивале Свободного Выражения в Париже в 1964;

3 года, когда Йоко Оно сделала перформанс “Cut Piece” в Киото;

8 лет, когда Вито Аккончи сделал его работу “Push Ups” на песке пляжа Джонс;

9 лет, когда Адриан Пайпер сделала серию перформансов “Catal- ysis” на улицах Нью-Йорка;

10 лет, когда Вали Экпорт переворачивалась на стекле в работе “Eros/Ion” во Франкфурте;

15 лет (я все еще в Северной Каролине не подозреваю, что происходит в арт мире), когда Марина Абрамович и Улай сталкивались друг с другом в пефрормансе “Relation in Space” на Венецианской Биеннале в 1976.
https://www.youtube.com/watch?v=I8Iba_3kVQw
https://www.youtube.com/watch?v=I8Iba_3kVQw

Мне было 31 в 1991, когда я начала изучать перформанс и боди-арт (телесные практики) в этот плодотворный и важный период полностью через документацию.
Хотя я очень уважительно отношусь к опыту участия “вживую” в перформансе в качестве зрителя, я тем не менее буду утверждать, что эта специфика не должна быть в более привилигированном положении по сравнению со спецификой знания, которое зависит от наличия документации этого события.
Насколько я знаю по моему опыту “реальность” участия в перформансе можно оценить только спустя время, многозначность образуется только спустя несколько лет. Довольно сложно осознать важность исторического контекста пока ты находишься внутри. Мы открываем для себя этот исторический срез с помощью изображения, через взгляд назад.”
Хотя я очень уважительно отношусь к опыту участия “вживую” в перформансе в качестве зрителя, я тем не менее буду утверждать, что эта специфика не должна быть в более привилигированном положении по сравнению со спецификой знания, которое зависит от наличия документации этого события.
Насколько я знаю по моему опыту “реальность” участия в перформансе можно оценить только спустя время, многозначность образуется только спустя несколько лет. Довольно сложно осознать важность исторического контекста пока ты находишься внутри. Мы открываем для себя этот исторический срез с помощью изображения, через взгляд назад.”
Представление о многих культовых перформансах 60-70гг. включая работы Ива Кляйна, Вито Аккончи, Дэна Грэма, Марты Минуджин, Мерса Каннингема, Яёи Кусамы, мы формулируем на основе на фотографий Гарри Шанка и Яноса Кендера.
И начнем с нескольких акций и перформансов, которые документировали Шанк и Кендер.
19 октября 1960 г Ив Кляйн совершает LE SAUT DANS LE VIDE (ПРЫЖОК В ПУСТОТУ), сфотографированный Гарри Шанком и Яносом Кендером. В большинстве фундаментальных трудов по истории современного искусства рассматривается как поворотный пункт в области высказываний по поводу "истины, заключающейся в нас самих, и скрывающейся за масками, которые мы должны сбросить".
И начнем с нескольких акций и перформансов, которые документировали Шанк и Кендер.
19 октября 1960 г Ив Кляйн совершает LE SAUT DANS LE VIDE (ПРЫЖОК В ПУСТОТУ), сфотографированный Гарри Шанком и Яносом Кендером. В большинстве фундаментальных трудов по истории современного искусства рассматривается как поворотный пункт в области высказываний по поводу "истины, заключающейся в нас самих, и скрывающейся за масками, которые мы должны сбросить".

Снимок, на котором Ив изображен летящим с распростертыми руками с верхнего этажа здания - фотомонтаж. Для его создания художник действительно прыгал со второго этажа, но не на мостовую, а на мат, который держали друзья-дзюдоисты.

Снимок был опубликован на первой странице ежедневной парижской газеты France sior под заголовком «Человек в космосе.

Гарри Шанк и Янос Кендер документируют акцию Ива Кляйна с разных перспектив, создавая тем самым эффект параллакса. То есть возникает феноменологический аспект фотографии: взаимоотношение между телом художника (перформера), камерой и зрителем, и в данном случае расположение зрителя зависит от фотографов, документирующих событие.

В данном примере перформанс зависает между реальным событием и документом. То есть возникает мерцающая граница авторства, фотографическое изображение в данном случае становится частью работы. И дальнейщее размещение фотографии в газете тоже важная часть репрезентации перформанса.
Также раскрывается важный вопрос индексальной природы фотографического изображения, художники с помощью фотомонтажа создают иллюзию прыжка на асфальт, в то же время, как правило, рассматривая фотографии перформанса мы верим в реальность происходящего. Фотография дает возможность перформансу случиться и делает это каждый раз, когда мы смотрим на изображение.
Также раскрывается важный вопрос индексальной природы фотографического изображения, художники с помощью фотомонтажа создают иллюзию прыжка на асфальт, в то же время, как правило, рассматривая фотографии перформанса мы верим в реальность происходящего. Фотография дает возможность перформансу случиться и делает это каждый раз, когда мы смотрим на изображение.
В документации перформанса Дэна Грема, который проходил в рамках выставки Pier 18 (1971), сопоставляются 2 серии фотографий. Перформер использует камеру как продолжение тела и делает снимки разных уровней пространства. Кадр выстроен вслепую, горизонт завален, что передает хаотичное ощущение. Шанк-Кендер документируют действие перформера, двигаясь вокруг него, но контролируют кадр и линия горизонта не меняется. Документация становится частью художественного жеста и в данном случае фотографы являются со-авторами. Художники предъявляют нам разницу “горизонтов” между опытом наблюдения перформанса вживую и через документацию.
выставка PIER 18
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3524?
выставка PIER 18
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3524?

Розалинд Краусс признала философские взаимовлияние фотографии и перформанса, расположенных в различных категориях индексальности. В качестве индексов, работающих в двух направлениях "заменяющих фиксацию чисто физического присутствия для более артикулированного языка эстетических конвенций." И еще, я хотела бы подчеркнуть, в их неспособности "выйти за рамки" случайных эстетических кодов, перформанс и фотография заявляют дополнительный характер самого индекса. Презентация сама по себе-в перформансе, в фотографии, кино или видео-звонках взаимодополняет тело и субъект (тело, как материал "объект" в мире, по-видимому, подтверждает "присутствие" субъекта; субъект наделяет тело значением в категории "человеческого"), а тоже самое происходит с перформансом и фото-документацией. (http://art.usf.edu/file_uploads/presence.pdf ) (Presence in Absentia amelia jones стр 16)
То есть как пишет Кети О’Дейл: “перформанс – это виртуальный эквивалент репрезентации”.
3. эссе Displacing the Haptic: Performance Art, the Photographic Document, and the 1970s – надо перепроверить
Перформанс случается на границе между событием и изображением. Невозможно точно определить, где заканчивается событие и начинается репрезентация, в этом и красота взаимовлияния фотографии и перформанса, эта граница даже в контексте документации до сих пор является дискуссионным полем, открытым к обсуждению и размышлению.
То есть как пишет Кети О’Дейл: “перформанс – это виртуальный эквивалент репрезентации”.
3. эссе Displacing the Haptic: Performance Art, the Photographic Document, and the 1970s – надо перепроверить
Перформанс случается на границе между событием и изображением. Невозможно точно определить, где заканчивается событие и начинается репрезентация, в этом и красота взаимовлияния фотографии и перформанса, эта граница даже в контексте документации до сих пор является дискуссионным полем, открытым к обсуждению и размышлению.
Исследования на тему документации перформанса:
1) Amelia Jones “Presence” in absentia. Experiencing Performance as Documentation”
2) Philip Auslander “Toward a hermeneutics of performance art documentation”
3) Jonah Westerman “Between Action and Image: Performance as ‘Inframedium’
4) Peggy Phelan “Unmarked: The Politics of Performance”
1) Amelia Jones “Presence” in absentia. Experiencing Performance as Documentation”
2) Philip Auslander “Toward a hermeneutics of performance art documentation”
3) Jonah Westerman “Between Action and Image: Performance as ‘Inframedium’
4) Peggy Phelan “Unmarked: The Politics of Performance”
ПЕРФОРМАНС ДЛЯ КАМЕРЫ
Развивая тему встречи фотографии и перформанса, надо подробнее разобрать ситуацию создания перформанса для камеры. В этом случае у зрителя не возникает двойной дистанции наблюдения за перформансом, в отличие от ситуации когда событие происходит “вживую”, в котором важен феноменологический аспект присутствия “здесь и сейчас”, и затем зритель спустя время рассматривает документацию события.
Перформанс можно рассмотреть как объективированное действие в котором время, пространство, субъект и объект организуют его и производят его значение. Фотография, в контексте темы перформанса для камеры, собирает эту сложность в целостность художественного образа.
То есть в данном случае перформанс случается с помощью камеры, которая дает необходимую рамку времени, пространcтва, субъекта и объекта.
В перформансе для камеры художник изначально конструирует изображение, используя свое тело как знак.
Почему тело рассматривается как знак?
В статье «Между субъектом и телом. Перформанс. Попытка определения жанра. Кто? Как? Для чего?» Абалакова Наталья Борисовна раскрывает феномен телесных художественных практик.
“В перформансе тело является художественным message: оно выставляется напоказ. Тело это берет на себя функцию некой "длительности", "протяженности" самого времени, его чувственно-телесной стороны, фундаментальной и незыблемой парадигмы человеческого удела. Нередко перформансы и акции, связанные с телесными практиками сопровождаются публичными раздеваниями или переодеваниями, что служит как дистанцированию и выделению конкретного тела от общего, коллективного, так и его "преображению", трансформации: любое действие акциониста, работающего с телом, это всегда демонстративное использование поверхности этого тела, его кожного покрова, обладающего определенной чувствительностью, которая может о себе "сказать", стать "посланием". Какую бы задачу не ставил перед собой автор, будь то "разрушение последнего табу", или интеллектуальная провокация, само создание чувственного образа внешнего воздействия, агрессии, насилия, -- все это пропускается художником через самого себя, собственный телесный опыт. Соучаствующий же зритель видит непосредственный процесс разрушения-созидания и ощущает его в границах собственной телесности, так как даже в современном виртуализированном мире, все еще хочется верить в то, что своими собственными телами мы все-таки пока еще обладаем. Иногда те же задачи по определению границ телесности могут решаться и ненасильственным образом, путем остранения: это перформансы, осуществленные с помощью зеркал, покрытия тела различными субстанциями, создание его отпечатков на ткани, на холсте, бумаге, песке, земле, глине, гипсе и т.д. Это создание всевозможного каталога "следов", "записей" природного в культурном контексте, создание диалога между природно-телесным и культурно-сконструированным, особые телесные псевдоэротические практики, выявляющие социо-культурные матрицы и стереотипы эротического как продукта культуры. Часто в телесных художественных практиках восстанавливается соответствующий нашей цивилизации и ее моделям образ реальности, растворенной в собственном отражении. В некоторых случаях телесные практики становились методом критического анализа, и в таких случаях автор, наоборот, предельно дистанцируется от создаваемого им образа, вплоть до своего полного исчезновения. Само тело в таких перформансах и акциях становилось средоточием многих проблем на границах живого и искусственного; тело могло внезапно стать опасным местом развязывания страстей и проблемой пределов ответственности автора, его способности овладения и управления могучими и подчас разрушительными возможностями этого тела. Социальная и политическая функция художника прежде всего проходит через его телесность, сколь бы такая мысль ни выглядела парадоксальной. Перформанс или акция всегда представляет собой своего рода призыв, обращение, что уже само по себе может быть известной политизацией. Проблемы перформансов и акций, связанных с телесностью, это не только (иногда) трансгрессивный поиск свободы, но и создание особых пространств, совместно открываемых художником и зрителем, поиск "запасного выхода", "незанятой территории", особого "ресурса", полного возможностей для непрекращающегося диалога, разрабатывающего собственный язык, соответствующий задачам этого диалога. Дискурс по сей день существующий и развивающийся, работающий с творческим переосмыслением культурных матриц.
…практика body-art (Телесные практики) определяла себя как форма художественной деятельности, объектом которой оказалось это самое тело постольку, поскольку в обыденной деятельности мы пользуемся им как "инструментом". Для зрителя этих художественных практик предполагалось "считывание" этого тела как объекта художественного опыта, тела такого, каким оно и было в действительности: биологией, смоделированной культурой или проявлением культуры в биологии. Тело преодолевает саму плотность формы и материи, стремясь встретиться с самим собой. Похоже, что в наше время, лишенное трансценденции и традиционных формообразующих структур сакрального: праздников, ритуалов, жертвоприношений, шествий, служб (политизированные тотальные спектакли вряд ли могут полностью их заменить), снова появляется потребность приобщиться к ритуалу на самом примитивном уровне телесности. Все эти соображения подводят к обнаружению семиотического измерения в художественных телесных практиках, если семиотику понимать как науку о знаковых системах в природе и обществе, и принять во внимание, что для Ф. де Соссюра семиотикой было достойно называться лишь то, что имеет отношение к ритуалам и языку. К этому стоит добавить, что в старых словарях это слово еще означает "учение о симптомах". Все-таки есть тело, или тела нет?
Однако не следует забывать, что сегодня в телесном дискурсе существует собственная семиотика, исследующая социальный и культурный аспект самых интимных свойств человеческого тела. Связанные с ними телесные практики рассматривают себя преимущественно как семиотические практики, принимая во внимание тот факт, что человеческое тело в высшей степени пластично и текуче в области означающих для биологического выражения культурного жеста. Предтечей большинства исследований в этой области является столь не почитаемый феминистическим сообществом З. Фрейд. Его разработка поз и последовательности развития сюжета в описании Моисея Микельанжело как будто вычислены на компьютере. В этой же связи стоит упомянуть об исследованиях жестового симеозиса, в котором именно этот симеозис станет означающим, а проект человеческого тела означаемым.
В своей книге "Из/вращения любви и ненависти" Р.Салецл описывает деятельность французской художницы Орлан. "Творчество Орлан сводится главным образом к многочисленным операциям пластической хирургии на лице, которые записываются на видео, а затем с ее комментариями выставляются в галереях. Объясняя свое искусство, она в первую очередь говорит о том, что тело -- это место публичных дискуссий. Ее искусство бросает вызов стандартам красоты, использует различные образы тела, выходящие за рамки норм и предписаний господствующей идеологии. Когда она играет с образами женственности, ее интенция заключается в практике транссексуальности от женщины к женщине, т.е. транссексуальное желание не следует обычному стремлению обладать определенной идентичностью. Кроме того, Орлан утверждает, что с помощью хирургии можно приблизить внутренний образ к внешнему, так что у нее не возникает потребности идентифицироваться с образом, данным ей природой. С помощью хирургии ее тело превращается в язык ("плоть становится словом"). Орлан хочет, чтобы после смерти ее тело мумифицировали и выставили в художественной галерее.
Развивая тему встречи фотографии и перформанса, надо подробнее разобрать ситуацию создания перформанса для камеры. В этом случае у зрителя не возникает двойной дистанции наблюдения за перформансом, в отличие от ситуации когда событие происходит “вживую”, в котором важен феноменологический аспект присутствия “здесь и сейчас”, и затем зритель спустя время рассматривает документацию события.
Перформанс можно рассмотреть как объективированное действие в котором время, пространство, субъект и объект организуют его и производят его значение. Фотография, в контексте темы перформанса для камеры, собирает эту сложность в целостность художественного образа.
То есть в данном случае перформанс случается с помощью камеры, которая дает необходимую рамку времени, пространcтва, субъекта и объекта.
В перформансе для камеры художник изначально конструирует изображение, используя свое тело как знак.
Почему тело рассматривается как знак?
В статье «Между субъектом и телом. Перформанс. Попытка определения жанра. Кто? Как? Для чего?» Абалакова Наталья Борисовна раскрывает феномен телесных художественных практик.
“В перформансе тело является художественным message: оно выставляется напоказ. Тело это берет на себя функцию некой "длительности", "протяженности" самого времени, его чувственно-телесной стороны, фундаментальной и незыблемой парадигмы человеческого удела. Нередко перформансы и акции, связанные с телесными практиками сопровождаются публичными раздеваниями или переодеваниями, что служит как дистанцированию и выделению конкретного тела от общего, коллективного, так и его "преображению", трансформации: любое действие акциониста, работающего с телом, это всегда демонстративное использование поверхности этого тела, его кожного покрова, обладающего определенной чувствительностью, которая может о себе "сказать", стать "посланием". Какую бы задачу не ставил перед собой автор, будь то "разрушение последнего табу", или интеллектуальная провокация, само создание чувственного образа внешнего воздействия, агрессии, насилия, -- все это пропускается художником через самого себя, собственный телесный опыт. Соучаствующий же зритель видит непосредственный процесс разрушения-созидания и ощущает его в границах собственной телесности, так как даже в современном виртуализированном мире, все еще хочется верить в то, что своими собственными телами мы все-таки пока еще обладаем. Иногда те же задачи по определению границ телесности могут решаться и ненасильственным образом, путем остранения: это перформансы, осуществленные с помощью зеркал, покрытия тела различными субстанциями, создание его отпечатков на ткани, на холсте, бумаге, песке, земле, глине, гипсе и т.д. Это создание всевозможного каталога "следов", "записей" природного в культурном контексте, создание диалога между природно-телесным и культурно-сконструированным, особые телесные псевдоэротические практики, выявляющие социо-культурные матрицы и стереотипы эротического как продукта культуры. Часто в телесных художественных практиках восстанавливается соответствующий нашей цивилизации и ее моделям образ реальности, растворенной в собственном отражении. В некоторых случаях телесные практики становились методом критического анализа, и в таких случаях автор, наоборот, предельно дистанцируется от создаваемого им образа, вплоть до своего полного исчезновения. Само тело в таких перформансах и акциях становилось средоточием многих проблем на границах живого и искусственного; тело могло внезапно стать опасным местом развязывания страстей и проблемой пределов ответственности автора, его способности овладения и управления могучими и подчас разрушительными возможностями этого тела. Социальная и политическая функция художника прежде всего проходит через его телесность, сколь бы такая мысль ни выглядела парадоксальной. Перформанс или акция всегда представляет собой своего рода призыв, обращение, что уже само по себе может быть известной политизацией. Проблемы перформансов и акций, связанных с телесностью, это не только (иногда) трансгрессивный поиск свободы, но и создание особых пространств, совместно открываемых художником и зрителем, поиск "запасного выхода", "незанятой территории", особого "ресурса", полного возможностей для непрекращающегося диалога, разрабатывающего собственный язык, соответствующий задачам этого диалога. Дискурс по сей день существующий и развивающийся, работающий с творческим переосмыслением культурных матриц.
…практика body-art (Телесные практики) определяла себя как форма художественной деятельности, объектом которой оказалось это самое тело постольку, поскольку в обыденной деятельности мы пользуемся им как "инструментом". Для зрителя этих художественных практик предполагалось "считывание" этого тела как объекта художественного опыта, тела такого, каким оно и было в действительности: биологией, смоделированной культурой или проявлением культуры в биологии. Тело преодолевает саму плотность формы и материи, стремясь встретиться с самим собой. Похоже, что в наше время, лишенное трансценденции и традиционных формообразующих структур сакрального: праздников, ритуалов, жертвоприношений, шествий, служб (политизированные тотальные спектакли вряд ли могут полностью их заменить), снова появляется потребность приобщиться к ритуалу на самом примитивном уровне телесности. Все эти соображения подводят к обнаружению семиотического измерения в художественных телесных практиках, если семиотику понимать как науку о знаковых системах в природе и обществе, и принять во внимание, что для Ф. де Соссюра семиотикой было достойно называться лишь то, что имеет отношение к ритуалам и языку. К этому стоит добавить, что в старых словарях это слово еще означает "учение о симптомах". Все-таки есть тело, или тела нет?
Однако не следует забывать, что сегодня в телесном дискурсе существует собственная семиотика, исследующая социальный и культурный аспект самых интимных свойств человеческого тела. Связанные с ними телесные практики рассматривают себя преимущественно как семиотические практики, принимая во внимание тот факт, что человеческое тело в высшей степени пластично и текуче в области означающих для биологического выражения культурного жеста. Предтечей большинства исследований в этой области является столь не почитаемый феминистическим сообществом З. Фрейд. Его разработка поз и последовательности развития сюжета в описании Моисея Микельанжело как будто вычислены на компьютере. В этой же связи стоит упомянуть об исследованиях жестового симеозиса, в котором именно этот симеозис станет означающим, а проект человеческого тела означаемым.
В своей книге "Из/вращения любви и ненависти" Р.Салецл описывает деятельность французской художницы Орлан. "Творчество Орлан сводится главным образом к многочисленным операциям пластической хирургии на лице, которые записываются на видео, а затем с ее комментариями выставляются в галереях. Объясняя свое искусство, она в первую очередь говорит о том, что тело -- это место публичных дискуссий. Ее искусство бросает вызов стандартам красоты, использует различные образы тела, выходящие за рамки норм и предписаний господствующей идеологии. Когда она играет с образами женственности, ее интенция заключается в практике транссексуальности от женщины к женщине, т.е. транссексуальное желание не следует обычному стремлению обладать определенной идентичностью. Кроме того, Орлан утверждает, что с помощью хирургии можно приблизить внутренний образ к внешнему, так что у нее не возникает потребности идентифицироваться с образом, данным ей природой. С помощью хирургии ее тело превращается в язык ("плоть становится словом"). Орлан хочет, чтобы после смерти ее тело мумифицировали и выставили в художественной галерее.

Таким образом, Орлан пытается играть с множественной идентичностью, она превращает свое тело в измеряемое произведение искусства и тем самым достигает своего рода бессмертия. Орлан стремится установить контроль не только над своим естественно данным образом тела, но также манипулировать с новыми технологиями (подобными пластической хирургии), используя их против идеалов господствующей идеологии".
Тело художницы, вводимое "в игру" и превращаемое в язык, сплавляясь с производством художественного продукта (хирургическими операциями), чтобы создать некий художественный образ "самое себя", представляет "дематериализованную природу", несмотря на ее плотскую, физическую основу. Это другой тип объекта культуры, это то самое бессознательное культуры, которое, по словам Ж. Лакана организовано как язык, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Предельно яркая демонстративность метода, то есть "кухни" художественного произведения, позволяет увидеть в нем внутритекстовые механизмы, отслеживающие взаимоотношения между языковыми единицами.
Тело художницы, вводимое "в игру" и превращаемое в язык, сплавляясь с производством художественного продукта (хирургическими операциями), чтобы создать некий художественный образ "самое себя", представляет "дематериализованную природу", несмотря на ее плотскую, физическую основу. Это другой тип объекта культуры, это то самое бессознательное культуры, которое, по словам Ж. Лакана организовано как язык, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Предельно яркая демонстративность метода, то есть "кухни" художественного произведения, позволяет увидеть в нем внутритекстовые механизмы, отслеживающие взаимоотношения между языковыми единицами.

Описывая перформанс Орлан, Р. Салецл пишет, что "единственное, что остается неизменным, так это ее голос. С помощью своего голоса она старается объяснить свое творчество: в то время как ей разрезают лицо, она читает теоретические тексты и комментирует хирургические процедуры. Голос ее не меняется на фоне поиска значения изменяющегося лица. Голос Орлан - влечение, т.е. реальное, то, что остается в ее перформансах неизменным. За хирургическими операциями на ее лице больно наблюдать. Причем страшно не только смотреть на то, как отделяется от лица кожа, но и слышать монотонный голос Орлан, в ходе операции декламирующей тексты. Если бы она молчала, зрители могли бы притвориться, что перед ними оперируемый на сцене человек, находящийся в состоянии глубокой анестезии... ее голос -- реальное место ужаса. Если закрыть глаза и слушать ее голос, то легче от этого не будет, поскольку голос Орлан - знак конечности и в то же самое время -- знак жизни...Орлан пытается своим творчеством показать, как она играет со своей идентичностью, но ее голос все-же остается реальным, тем, что в ней превышает ее самое (ее пластичное я)".
В этом навязчивом "заговаривании", или даже скорее "проговаривании" или "выговаривании" вырисовывается знакомое движение по спирали, за счет чего Р. Салецл удается создать удивительно яркое описание телесных практик французской художницы, демонстрирующее, что наивысшая степень реальности (отсутствие) достигается при помощи тела как знака (присутствия).”
Эрика Фишер-Лихте обращаясь к эмерджентности значения в книге “Эстетика перформативности” пишет следующее:
“Символ стремится искоренить свойственную ему субъективность и изъять её из своего значения. В рамках беньяминовской философии истории символ в то же самое время предвосхищает будущее. Подобно тому как он обнаруживает смысл, скрытый в его сокровенном, так и природа в день искупления в “непосредственно настоящем” обнаружит скрытый в нем смысл. Следовательно, символ предвосхищает конец истории,который он в то же самое время символизирует, потому что в нем “с просветлением гибели преображенный облик природы на мгновение приоткрывается в свете избавления”… Материальность, означающее и означаемое совпадают; и здесь, и там в отношении символа и в отношении автореферентности с полным правом можно говорить о сокровенном смысле. При этом, однако, также нельзя упускать из виду серьезные различия между ними, обусловленные, главным образом, беньяминовской концепцией философии истории. Причина заключается в том, что феномен автореферентности никоим образом не отрицает вовлеченность воспринимающего субъекта, а, наоброт наличие субъекта, воспринимающего феномен в его непосредственном существовании,позволяет говорить о сокровенном смысле. Отсюда следует, что смысл воспринимающего объекта,
тождественный его “феноменальному бытию”, возникает благодаря акту восприятия, совершаемому субъектом.
Понятия “присутствие” и “репрезентация” в эстетических теориях долгое время воспринимались как противоположности. Под присутствием подразумевалась непосредственность и аутентичность, ощущение полноты и целостности. Репрезентация, наоборот, рассматривалась как понятие, связанное с так называемыми “большими нарративами”, считавшимися инстанциями власти и контроля. Кроме того, с этим понятием связывалось представление о некоем поcтоянном, неменяющемся смыслом. Проблематичным звеном этой концепции был опосредованный подход к миру, обусловленный присущей ей знаковой структурой. Как феномен присутствия, так и сценический персонаж возникает в результате особых процессов воплощения. При этом персонаж не является иллюстрацией или имитацией некого образа, созданного кем-то другим, а возникает благодаря специфическим процессам воплощения. Создаваемый такими средствами персонаж неотделим от телесности изображающего его актера. Индивидуальные физические данные актера, его “феноменальное бытие” создают необходимую основу для возникновения персонажа, существование которого немыслимо вне тела актера. Это означает, что актер, исполняя роль, не воссоздает образ, обрисованный в тексте пьесы, а создает нечто совершенно новое и неповторимое, существующее только благодаря его индивидуальной телесности. Поэтому если мы хотим по-прежнему использовать понятие репрезентации в отношении процесса создания сценического образа, то это понятие необходимо пересмотреть. Как феномен репрезентации, так и феномен присутствия возникают как результат специфических процессов воплощения, воспринимаемых субъектом. Тем не менее это не означает, что эти феномены ничем не различаются. Разница между феноменом репрезентации и присутствия возникает на уровне зрительского восприятия. Это проявляется особенно явно на примере мультиустойчивого восприятия.”
В перформансе для камеры “виртуальная конструкция” репрезентации перформанса совпадает с материальной. Если художник изначально задумал свой перформанс для камеры, и часто он может случиться только благодаря фотографии, то обращаясь к критике документации Пегги Фелан, в которой документация сравнивается с “рябью на воде от брошенного в реку камня”, в данном случае метафора разворачивается и “бросок камня в воду” возникает каждый раз, когда мы смотрим на фотографию.
ё
В этом навязчивом "заговаривании", или даже скорее "проговаривании" или "выговаривании" вырисовывается знакомое движение по спирали, за счет чего Р. Салецл удается создать удивительно яркое описание телесных практик французской художницы, демонстрирующее, что наивысшая степень реальности (отсутствие) достигается при помощи тела как знака (присутствия).”
Эрика Фишер-Лихте обращаясь к эмерджентности значения в книге “Эстетика перформативности” пишет следующее:
“Символ стремится искоренить свойственную ему субъективность и изъять её из своего значения. В рамках беньяминовской философии истории символ в то же самое время предвосхищает будущее. Подобно тому как он обнаруживает смысл, скрытый в его сокровенном, так и природа в день искупления в “непосредственно настоящем” обнаружит скрытый в нем смысл. Следовательно, символ предвосхищает конец истории,который он в то же самое время символизирует, потому что в нем “с просветлением гибели преображенный облик природы на мгновение приоткрывается в свете избавления”… Материальность, означающее и означаемое совпадают; и здесь, и там в отношении символа и в отношении автореферентности с полным правом можно говорить о сокровенном смысле. При этом, однако, также нельзя упускать из виду серьезные различия между ними, обусловленные, главным образом, беньяминовской концепцией философии истории. Причина заключается в том, что феномен автореферентности никоим образом не отрицает вовлеченность воспринимающего субъекта, а, наоброт наличие субъекта, воспринимающего феномен в его непосредственном существовании,позволяет говорить о сокровенном смысле. Отсюда следует, что смысл воспринимающего объекта,
тождественный его “феноменальному бытию”, возникает благодаря акту восприятия, совершаемому субъектом.
Понятия “присутствие” и “репрезентация” в эстетических теориях долгое время воспринимались как противоположности. Под присутствием подразумевалась непосредственность и аутентичность, ощущение полноты и целостности. Репрезентация, наоборот, рассматривалась как понятие, связанное с так называемыми “большими нарративами”, считавшимися инстанциями власти и контроля. Кроме того, с этим понятием связывалось представление о некоем поcтоянном, неменяющемся смыслом. Проблематичным звеном этой концепции был опосредованный подход к миру, обусловленный присущей ей знаковой структурой. Как феномен присутствия, так и сценический персонаж возникает в результате особых процессов воплощения. При этом персонаж не является иллюстрацией или имитацией некого образа, созданного кем-то другим, а возникает благодаря специфическим процессам воплощения. Создаваемый такими средствами персонаж неотделим от телесности изображающего его актера. Индивидуальные физические данные актера, его “феноменальное бытие” создают необходимую основу для возникновения персонажа, существование которого немыслимо вне тела актера. Это означает, что актер, исполняя роль, не воссоздает образ, обрисованный в тексте пьесы, а создает нечто совершенно новое и неповторимое, существующее только благодаря его индивидуальной телесности. Поэтому если мы хотим по-прежнему использовать понятие репрезентации в отношении процесса создания сценического образа, то это понятие необходимо пересмотреть. Как феномен репрезентации, так и феномен присутствия возникают как результат специфических процессов воплощения, воспринимаемых субъектом. Тем не менее это не означает, что эти феномены ничем не различаются. Разница между феноменом репрезентации и присутствия возникает на уровне зрительского восприятия. Это проявляется особенно явно на примере мультиустойчивого восприятия.”
В перформансе для камеры “виртуальная конструкция” репрезентации перформанса совпадает с материальной. Если художник изначально задумал свой перформанс для камеры, и часто он может случиться только благодаря фотографии, то обращаясь к критике документации Пегги Фелан, в которой документация сравнивается с “рябью на воде от брошенного в реку камня”, в данном случае метафора разворачивается и “бросок камня в воду” возникает каждый раз, когда мы смотрим на фотографию.
ё
К примеру на выставке была представлена работа Рэя Чарльза Plank Piece I-III (1973). Рэй Чарльз – скульптор и делал скульптурные перформансы для камеры. Как говорил Рэй Чарльз об этой работе: “Мое тело это скульптурный элемент прикрепленный к стене с помощью деревянной балки”. При этом художник стирает различия между скульптурой и телом. В тоже время, в контексте выставки “Performing for the camera” накладывается дополнительный смысл, который отметили критики, обращенный к фотографии. Фотография, которую держали в руках теперь висит на стене, и застывший момент, который создает фотография, изображает тело художника. То есть тело означает момент, который камера, по аналогии с деревянной балкой, прикрепляет к стене.

Кароли Шнееман — одна из заметных фигур американского художественного феминизма 1960–1970-х годов в её не столько рационально-критическом, сколько экспрессивном изводе. Быть женщиной — значит прежде всего осознать и принять свое тело, и главным для Шнееман было сексуальное освобождение женского тела, традиционно выступавшего лишь в качестве зеркала мужских желаний. (https://theoryandpractice.ru/posts/7654-body-in-art)
В работе Eye Body: 36 Transformative Actions (1963), Шнееман снимается внутри созданной ею скульптуры, которая представляет собой асамбляж. Кароли Шнееман появляется и как субъект и как объект, то есть как художница и как часть изображения. Как пишет Кароли Шнееман: “Я хотела, чтобы мое тело слилось с работой и стало материалом для изображения, как дополнительное измерение конструкции… Я и создатель изображения и само изображение.”
Через фотографию выявляется мерцание между материальностью тела (субъективным аcпектом) и знаковостью (объективным акпектом). Скорей всего эта работа относится больше к перформативной фотографии, чем к перформансу, поскольку временная рамка не задана с помощью фотографии, эта серия работ снимается неопределенное время. Но тут хорошо проявляена амбивалетность знаковости тела, которая как раз заостряется при слиянии перформанса и фотографии. В перформансе как правило тело предъявляется как знак и субъективность тела в большинстве случаев растворяется, тело ставится частью художественного образа. В то время как в фотографии, мы можем рассмотреть эту работу с точки зрения автопортрета художницы.
То есть нельзя однозначно сказать, что перед нами автопортрет художницы или действие для камеры, в этом случае как раз происходит зависание между этими понятиями.
В работе Eye Body: 36 Transformative Actions (1963), Шнееман снимается внутри созданной ею скульптуры, которая представляет собой асамбляж. Кароли Шнееман появляется и как субъект и как объект, то есть как художница и как часть изображения. Как пишет Кароли Шнееман: “Я хотела, чтобы мое тело слилось с работой и стало материалом для изображения, как дополнительное измерение конструкции… Я и создатель изображения и само изображение.”
Через фотографию выявляется мерцание между материальностью тела (субъективным аcпектом) и знаковостью (объективным акпектом). Скорей всего эта работа относится больше к перформативной фотографии, чем к перформансу, поскольку временная рамка не задана с помощью фотографии, эта серия работ снимается неопределенное время. Но тут хорошо проявляена амбивалетность знаковости тела, которая как раз заостряется при слиянии перформанса и фотографии. В перформансе как правило тело предъявляется как знак и субъективность тела в большинстве случаев растворяется, тело ставится частью художественного образа. В то время как в фотографии, мы можем рассмотреть эту работу с точки зрения автопортрета художницы.
То есть нельзя однозначно сказать, что перед нами автопортрет художницы или действие для камеры, в этом случае как раз происходит зависание между этими понятиями.

Если многие женские перформансы конца 1960-х, начала 1970-х имели декларативный характер, знаменуя собой экспрессионистскую энергетику в исследованиях женской сексуальности, то у Вали Экспорт исследование женской сексуальности не сводились к феминистскому призыву придать женскому сексуальному опыту полную автономность. Иначе говоря, женское тело и его означающие становятся орудием для решения сложнейших теоретических, политических и художественных задач. Концепт, тело, пространство, время, парадоксы перцепции, пол, сексуальность, социум, его конфликты взаимосвязаны. Тело в этом случае является скорее перцептивно-когнитивным инструментом, с помощью которого может произойти пересечение этих тем. Такое тело существует во времени конструирования смысла, а не просто визуально-экспрессивного выражения. Именно трансцендентализм эмпиризма в перформансах Экспорт обусловливает такую легкость при вписывании тела в урбанистические пространства. Функции чтения мира через тело слишком широки, чтобы ограничивать его исключительно женским аутентичным наслаждением. Трансцендентальный эмпиризм — это концепт Жиля Делеза, который означает, что нет никакого аутентичного телесного опыта (тем более наслаждения). Он дан в режиме становления. Поэтому ощущения и чувствования — уже эффекты и узлы, включающие переплетения события, политики, рефлексии, художественной знаковости.
В серии фотографий “Body Configurations” (1972-76), Вали Экспорт встраивается в общественное пространcтво и её действия представляют собой воплощение её собственного состояния, через позы и жесты. И позирование с одной стороны продолжают городскую среду, а с другой происходит в форме совершенно выбивающейся из общепринятых правил городского ландшафта.
В контексте темы перформанса для камеры в данном примере
пространтсво становится той рамкой, которая организует действие перформанса.
В серии фотографий “Body Configurations” (1972-76), Вали Экспорт встраивается в общественное пространcтво и её действия представляют собой воплощение её собственного состояния, через позы и жесты. И позирование с одной стороны продолжают городскую среду, а с другой происходит в форме совершенно выбивающейся из общепринятых правил городского ландшафта.
В контексте темы перформанса для камеры в данном примере
пространтсво становится той рамкой, которая организует действие перформанса.





Зритель наблюдая фотографию может примерить ощущения тела, то есть фотография как посредник между событием и нашим взглядом передает cлед опыта, который мы можем почувствовать, задействуя свое воображение. И отсылка к реальному опыту художника в этой связке обретает свой вес.
Амелиа Джонс в статье “The “Eternal Return”: Self-Portrait Photography as a Technology of Embodiment” рассматривает обретение субъектом длительности через фотографию, ссылаясь феномен экранного образа (который подчеркивает Лакан в эссе “Что такое изображение?” 1964 г.)
(http://faculty.winthrop.edu/stockk/SELF%20PORTRAIT/jones%20photo%20sp.pdf)
(Подорога «Феноменология тела»)
Зеркало и экран: первое механически копирует, второе трансформирует. Парадоксы зеркального отображения, широко известные сегодня: зеркало всегда отражает так, как если бы отраженное было первично по отношению к отражаемому. В ранних лекциях Лакан сделал ряд попыток прояснения таких парадоксов. Приведем его схему и немного поразмышляем над ней (26)
Амелиа Джонс в статье “The “Eternal Return”: Self-Portrait Photography as a Technology of Embodiment” рассматривает обретение субъектом длительности через фотографию, ссылаясь феномен экранного образа (который подчеркивает Лакан в эссе “Что такое изображение?” 1964 г.)
(http://faculty.winthrop.edu/stockk/SELF%20PORTRAIT/jones%20photo%20sp.pdf)
(Подорога «Феноменология тела»)
Зеркало и экран: первое механически копирует, второе трансформирует. Парадоксы зеркального отображения, широко известные сегодня: зеркало всегда отражает так, как если бы отраженное было первично по отношению к отражаемому. В ранних лекциях Лакан сделал ряд попыток прояснения таких парадоксов. Приведем его схему и немного поразмышляем над ней (26)

Отражение удваивает наше присутствие в мире. Утопично или гетеротопично отражение? Я здесь, а зеркало — там, но когда я в зеркале, то где я? Могу ли я быть и "там" и "здесь"? Ведь то, что я здесь (вне зеркала), я узнаю из того, что я там, в зеркале. Зеркало повторяет и отбрасывает меня на меня — повторяет мои движения как механическая кукла и вместе с тем (поскольку я смотрю, обладаю взглядом) показывает меня в другом месте, где я физически не могу быть. Но никто не станет отрицать того, что с точки зрения телесной идентичности я существую (как тело) лишь постольку, поскольку я видим в зеркале, зеркальном "там". Это крайне любопытно, но и драматично, ибо я сам по себе есть только вне себя. Я вижу себя там, где я не есть, и вместе с тем я есть благодаря тому, что все время располагаюсь вне себя — там, где я не есть. Мое телесное существование в краткий миг соотнесения с зеркальным отображением оказывается местом без места — гетеротопический эффект. Два положения тела: виртуальное (Я-там) и актуальное (Я-здесь). Виртуально-оптическое создает для меня чистое поле присутствия и, следовательно, поддерживает факт моего актуального существования. Зеркальный Другой, двойник, позволяет нам присутствовать-в-мире, быть актуальными.
Что пытается высказать Лакан? Прежде всего, усложняя цепочку взаимоотношений между видящим и видимым и разлагая схему на два предваряющих ее треугольника, он вводит принципиальное различие между взглядом и геометрической точкой, пространством (плоскостью) репрезентации и "картиной" (tableau), устанавливая для каждого треугольника (геометрического и перцептивного) базисный медиатор: в одном случае это будет образ, в другом — экран (27). Из геометрической точки мы не в силах схватить целостность объекта, и поэтому при переводе в изображение он испытает деформации, получит "неточные" качества образа; из световой, иррадиирующей точки (места, где может быть взгляд) картина мира тоже может быть искажена в силу различных мутаций, отклонений, задержек света и тени, что и преобразует полную, идеальную освещенность полотна в экранный образ.
Что пытается высказать Лакан? Прежде всего, усложняя цепочку взаимоотношений между видящим и видимым и разлагая схему на два предваряющих ее треугольника, он вводит принципиальное различие между взглядом и геометрической точкой, пространством (плоскостью) репрезентации и "картиной" (tableau), устанавливая для каждого треугольника (геометрического и перцептивного) базисный медиатор: в одном случае это будет образ, в другом — экран (27). Из геометрической точки мы не в силах схватить целостность объекта, и поэтому при переводе в изображение он испытает деформации, получит "неточные" качества образа; из световой, иррадиирующей точки (места, где может быть взгляд) картина мира тоже может быть искажена в силу различных мутаций, отклонений, задержек света и тени, что и преобразует полную, идеальную освещенность полотна в экранный образ.

Идея зеркальной непрерывности, обратимости выводит нас понятию плоти."Мое тело" и есть плоть, которую я впервые замечаю, когда сталкиваюсь с телом Другого. Обмен телами (пускай оптический), обмен непрерывный, позволяет зародиться образу плоти или, точнее, нашей телесной промежуточности, ибо мы не можем оказаться в собственном теле без тела Другого.
«Как и все другие технические предметы и приспособления, как инструменты, знаки, зеркало появилось в открытом кругообращении видящих тел в тела видимые. Оно прорисовывает и расширяет метафизическую структуру нашей плоти. Зеркало может появиться, потому что я суть видящее-видимое, потому что существует своего рода рефлексивность чувственного и зеркало ее выражает и воспроизводит. Благодаря ему мое внешнее дополняется, все самое потаенное, что у меня было, оказывается в этом облике, этом плоском и закрытом в своих пределах сущем, которое уже предугадывалось в моем отражении в воде. Шильдер отмечает, что, куря трубку перед зеркалом, я ощущаю гладкую и нагретую поверхность дерева не только там, где располагаются мои пальцы, но и в тех выставленных напоказ, только видимых пальцах, которые пребывают в глубинах зеркала. Призрак зеркала вьволакивает наружу мою плоть и тем самым то невидимое, что было и есть в моем теле, сразу же обретает возможность наделять собой другие видимые мной тела. С этого момента мое тело может содержать сегменты, заимствованные у тел других людей, так же как моя субстанция может переходить в них: человек для человека оказывается зеркалом. Само же зеркало оборачивается инструментом универсальной магии, который превращает вещи в зримые представления, зримые представления — в вещи,, меня — в другого и другого — в меня» (28).
(конец цитаты http://telesnost.ru/omega/filosofiya/fenomenologiya_tela_ch_2.htm)
«Как и все другие технические предметы и приспособления, как инструменты, знаки, зеркало появилось в открытом кругообращении видящих тел в тела видимые. Оно прорисовывает и расширяет метафизическую структуру нашей плоти. Зеркало может появиться, потому что я суть видящее-видимое, потому что существует своего рода рефлексивность чувственного и зеркало ее выражает и воспроизводит. Благодаря ему мое внешнее дополняется, все самое потаенное, что у меня было, оказывается в этом облике, этом плоском и закрытом в своих пределах сущем, которое уже предугадывалось в моем отражении в воде. Шильдер отмечает, что, куря трубку перед зеркалом, я ощущаю гладкую и нагретую поверхность дерева не только там, где располагаются мои пальцы, но и в тех выставленных напоказ, только видимых пальцах, которые пребывают в глубинах зеркала. Призрак зеркала вьволакивает наружу мою плоть и тем самым то невидимое, что было и есть в моем теле, сразу же обретает возможность наделять собой другие видимые мной тела. С этого момента мое тело может содержать сегменты, заимствованные у тел других людей, так же как моя субстанция может переходить в них: человек для человека оказывается зеркалом. Само же зеркало оборачивается инструментом универсальной магии, который превращает вещи в зримые представления, зримые представления — в вещи,, меня — в другого и другого — в меня» (28).
(конец цитаты http://telesnost.ru/omega/filosofiya/fenomenologiya_tela_ch_2.htm)
Фотография означает момент в прошлом, но в то же время, через фотографию этот момент обретает новую жизнь (знаковой репрезентации) на отпечатке.
Вито Аккончи сделал ряд перформансов для камеры (в том числе видеоперформансы), исследуя границы собственного тела, а также пространтсво кадра.
В перформансе “Trademarks” кусает себя, затем фотографирует следы укусов, делает чернильные отпечатки этих следов и наносит эти отпечатки на другие поверхности (камни, тела, стены). С одной стороны это исследование границ собственного тела, но параллельно происходит действие через фотографию, сам отпечаток обретает способность влиять на внешнюю среду. Тем самым сначала самоедство проявляется через действие, становится художественным жестом и физиологический след переносится на плоскость. То есть невидимый феномен обретает видимость и с помощью фотографии трансформируется в знаковое поле.
В перформансе “Trademarks” кусает себя, затем фотографирует следы укусов, делает чернильные отпечатки этих следов и наносит эти отпечатки на другие поверхности (камни, тела, стены). С одной стороны это исследование границ собственного тела, но параллельно происходит действие через фотографию, сам отпечаток обретает способность влиять на внешнюю среду. Тем самым сначала самоедство проявляется через действие, становится художественным жестом и физиологический след переносится на плоскость. То есть невидимый феномен обретает видимость и с помощью фотографии трансформируется в знаковое поле.



ТЕЛО КАК АРХИВ (Перформативные аспекты фотографии)
В этой теме мы рассмотрим перформативные аспекты фотографии.
Перформанс для камеры и перформативная фотография – это разные понятия, хотя часто пересекаются между собой.
В теме Перформанс для камеры мы рассмотрели перформансы и перформативные фотографии, в которых можно выделить объективированное действие и в свою очередь время, пространство, субъект и объект организуют это действие и производят его значение (с помощью фотографии).
Но понятие перформативности гораздо шире, рассмотрим его особенности.
(источник- диссертация Антонян М.А. “Особенности рецепции перформанса: на материале работ Марины Абрамович.”, 2015)(http://sias.ru/upload/ds-antonyan/Disser_Antonian.pdf )
Понятие перформативности становится популярным в таких областях как социология, философия, антропология, литературоведение и культурология. Автор труда "Performance theory" и один из основателей антропологической дисциплины performance studies (перформативные исследования) Р. Шехнер использует понятие перформанса для обзора широкого спектра поведенческих особенностей человека. В современном обществе каждый представитель своего социума является носителем перформативности, передающейся через модель поведения, одежду, еду и т.д. В данном случае, теория перформативности очевидно перекликается с некоторыми положениями теории «карнавальной культуры» М.Бахтина.
К понятию перформативности в своих работах обращались Ж.Деррида( об «успешном» перформативе, конексте, воздействии и контрасте перформатива (работа «Подпись-событие-контекст», 1972), Ю. Хабермас (о перформативности как коммуникативном способе самопрезентации) и др.
Некоторые ученые, использующие понятие перформанса и перформативности, в то же время отмечают проблему повсеместного употребления термина. "Если некоторые филологи свели все не интересующие их понятия под одно название "перформанс", то антропологи и фольклористы сделали немного, чтобы прояснить ситуацию. Мы, как правило,относим к понятию "перформанс" все, что нас интересует".
Перформативность в разных формах процессуального искусства понимается как действие художника, проиллюстрированное с помощью тела, где художник представляет самого себя перед другими людьми, т.е. он использует невербальный язык для обозначения совершающегося действия.
Итак, отметим, что существительное «перформативность» или прилашательное «перформативный» как черта существуют как в «поле культуры» - перформативные виды деятельности в жизни, так и в «поле искусства» - понятие «перформативные формы искусств». Перформативность как характеристика в широком смысле объединяет любое преформативное высказывание в жизни с искусством перформанса или другой формой акционизма наличием собственно совершаемого действия, зрителя-слушателя и подразумеваемым восприятием и реакцией публики. Можно сказать, что перформанс как произведение всегда перформативен, но не любое перформативное произведение или действие является перформансом. (источник- диссертация Антонян М.А. “Особенности рецепции перформанса: на материале работ Марины Абрамович.”, 2015)(http://sias.ru/upload/ds-antonyan/Disser_Antonian.pdf )
Батлер . Фишер-Лихте ссылается на статью Performing Feminism. Feminist Critical Theory and Theatre /1990 ed. by Sue –Ellen Case. – Baltimore/London p.270-282
Остин Дж. Как произвотить дейтсвия при помощи слов / пер. Руднева// дж. Остин Избранное. Москва – Идея Пресс 1999
По определению Джудит Батлер, телесные действия, называемые “перформативными" не служат выражению некой идентичности, а скорее создают идентичность в качестве своего значения. Отсюда следует, что тело отдельного человека с его особой материальностью тоже является результатом повторного воспроизведения определенных жестов и движений. Именно эти отдельные действия порождают тело с его индивидуальными, половыми , этническими, культурными признаками. Таким образом идентичность - как телесная и социальная реальность - постоянно формируется посредством перформативных актов.
В то же самое время ни индивидуум, ни общество не в состоянии полностью контролировать условия, в которых происходит процесс воплощения. Как индивидуум не обладает полной свободой при выборе возможностей для воплощения, а следовательно, при выборе идентичности, так и общество в свою очередь не в силах осуществить абсолютный контроль. Общество может, тем не менее, пытаясь навязать свои условия при выборе возможностей для воплощения, применяя штрафные санкции в случаях неповиновения, однако в целом оно не в состоянии предотвратить уклонение от насаждаемого порядка как таковое. Это означает, что выявленная Остином способность перформативных феноменов разрушать дихтомические структуры, очевидно, играет важную роль и в концепции Батлер. C одной стороны, посредством перформативных актов, формирующих гендер и идентичность в целом, общество осуществляет насилие над телом индивида. С другой стороны, перформативные акты предоставляют отдельной личности возможность для индивидуального воплощения, а именно – с отклонением от укоренившихся в обществе представлений, даже если это сопряжено с санкциями со стороны общества. (Эрика Фишер)
Понятие перформанса, а следовательно перформативности, до сих пор расширяется. К примеру, Роузли Голдберг автор книги “Искусство перформанса. От футуризма до наших дней.” в предисловии к книге постоянно дополняет определение перформанса. Было 4 издания книги в 1979, 1988, 2000 и в 2011 году. А поскольку Голдберг и искусствовед, и в тоже время куратор и основатель биеннале Performa, теория и практика в данном случае неразрывно связаны между собой. (далее цитата Р. Голдберг)
Голдберг рассматривает перформанс как “обращение художников к живому выступлению, которое, будучи одним из многим средств выражения их идей, сыграло важную роль в истории искусства. Перформанс рассматривался как способ воплощения в жизнь множества формальных и концептуальных идей, на которых основывается создание искусства. Непосредственные публичные жесты постоянно использовались в качестве оружия в борьбе с традициями устоявшихся жанров искусства.
Перформансы-манифесты, от футуристических до современных, были самовыражением несогласных, пытавшихся найти альтернативные способы исследования и переживания искусства в повседневной жизни. Перформанс был способом напрямую обращаться к большой аудитории и при этом – шокировать публику, заставляя ее пересматривать собственные понятия об искусстве и его связи с культурой. И наоборот, интерес публики к данному жанру, особенно в 1980-е, проистекал из явного желания этой публики получить доступ к миру искусства, быть зрителем, наблюдая за его ритуалами и его самобытным сообществом, и удивляться неожиданным, всегда оригинальным художественным актам. Произведение может быть представлено в одиночку или группой, с освещением, музыкой и визуальными эффектами, сделанными художниками самостоятельно или в сотрудничестве с другими, исполняться оно может в самых различных местах, от художественной галереи или музея до “альтернативного пространства”, театра, кафе, бара или уличного перекрестка. В отличие от театра, здесь исполнитель и есть художник: редко бывает, чтобы он, подобно актеру, изображал персонажа, а содержание его действия почти никогда не следует традиционному сюжету или нарративу. Перформанс может быть серией жестов личного характера или широкомасштабным визуальным театральным действом, продолжительностью от нескольких минут до многих часов; он может исполняться всего однажды или повторяться несколько раз, идти по заранее подготовленному сценарию или без него, быть спонтанной импровизацией или репетироваться месяцами. Перформанс - будь то племенной ритуал, средневековая мистерия о Страстях Господних, спектакль эпохи Возрождения или суаре в парижской артистической студии 1920-х – позволял художнику утвердить свое присутствие в обществе. Это присутствие, в зависимости от характера перформанса, может быть эзотерическим, шаманским, инструктивным, провокационным или развлекательным.
История искусства перформанса в XX веке – история свободного, ничем не ограниченного жанра с бесконечным числом переменных, где исполнители – художники, которым надоело втискиваться в рамки более традиционных видов художественной практики и которые твердо намерены донести свое искусство до публики напрямую. По этой причине перформанс всегда имел под собой анархическую основу. Сама природа перформанса не допускает точных или удобных дефиниций помимо того нехитрого заявления, что это – живое искусство в исполнении художников. Более строгое определение немедленно свело бы на нет саму возможность перформанса. Ведь он, не задумываясь, делает заимствования из всевозможных дисциплин и медиумов – литературы, поэзии, театра, музыки, танца, архитектуры и живописи, а также видео, кино, фотографии и повествований, - используя их во всевозможных комбинациях. По сути, столь неограниченным набором принципов не обладает никакая другая форма художественного выражения, и каждый автор перформанса, в процессе его осуществления и с присущей ему манерой исполнения, формулирует его определение по-своему.
В XXI веке резко выросло число художников по всему миру, обращающихся к перформансу, - медиуму, который позволяет выражать “различия”, присущие их собственной культуре или этнической принадлежности, и дает возможность присоединиться к более широкому дискурсу глобальной международной культуры. Особое значение придается тому, в какой степени сосредоточена на перформансе академическая среда – будь то философская, архитектурная или антропологическая, - представители которой изучают его влияние на интеллектуальную историю.” (конец цитаты)
То есть определение включает в себя много аспектов, которые сложно уложить в строго очерченные понятия.
По выражению Элин Даймонд, перформансы — это события, в которых «культура сложным образом возвещает о себе».
Ребекка Шнайдер в эссе “Performing remains. Art and war in times of theatrical reenactment” выделила нематериальные аспекты архива, которые включают в себя память тела: «позирующее тело, тело, делающие жесты, читающее слова, поющее песню или безмолвно наблюдающее, тело, склонившееся над столом в архиве над „подлинной“ рукописью или всматривающееся в экран» (с. 33)
Исторически фотография появилась раньше, чем перформанс, поэтому рассматривая тело как архив или другими словами телесную память, которая проявляется в способе позирования, движениях, жестах, мимике, танцевальных движениях, поведенческих паттернах, можно проследить как фотография повлияла на перформанс.
В перформансе есть концептуальная рамка (которая как раз отсылает нас ко времени, пространству, объекту и субъекту) и есть также процесс, который сложно вместить в какие-либо рамки. То есть концептуальная структура и феноменологический аспект в каждом перформансе срастаются по-своему.
Если провести параллель между перформансом и фотографией, как между событием и архивом (документацией события), то вспоминая про нематериальный аспект архива (про который писала Шнайдер) можно сказать, что возникает интересное пересечение в котором само событие уже содержит в себе архив (нематериальный архив).
То есть тело в фотографии уже задает репрезентационные конструкты, которые оседают затем в перформансе через тело.
C это точки зрения мы рассмотрим перформативную фотографию в этой теме.
Возможно предположить, что первая перформативная фотография была сделана в 1840 году, когда Ипполит Баярд позировал, полуголый, для его Автопортрета, изображая утопленника. Это было заявление протеста. Баярд считал, что он изобрел фотографию опередив Луи Дагера и Генри Фокс Тальбота, но затянул с докладом об открытии. Его утешительным призом было то, что, пожалуй, ему принадлежит первая вымышленная фотография, несмотря на фаталистический заголовок: ‘труп, который вы видите здесь - М. Баярд, изобретатель процесса, который только что вам показал...’, он прожил до 1887 года. В 1888 году компания Kodak представила фотокамеру Box Brownie, недорогую портативную камеру, которая дает шанс каждому сделать перформативную фотографию.
В этой теме мы рассмотрим перформативные аспекты фотографии.
Перформанс для камеры и перформативная фотография – это разные понятия, хотя часто пересекаются между собой.
В теме Перформанс для камеры мы рассмотрели перформансы и перформативные фотографии, в которых можно выделить объективированное действие и в свою очередь время, пространство, субъект и объект организуют это действие и производят его значение (с помощью фотографии).
Но понятие перформативности гораздо шире, рассмотрим его особенности.
(источник- диссертация Антонян М.А. “Особенности рецепции перформанса: на материале работ Марины Абрамович.”, 2015)(http://sias.ru/upload/ds-antonyan/Disser_Antonian.pdf )
Понятие перформативности становится популярным в таких областях как социология, философия, антропология, литературоведение и культурология. Автор труда "Performance theory" и один из основателей антропологической дисциплины performance studies (перформативные исследования) Р. Шехнер использует понятие перформанса для обзора широкого спектра поведенческих особенностей человека. В современном обществе каждый представитель своего социума является носителем перформативности, передающейся через модель поведения, одежду, еду и т.д. В данном случае, теория перформативности очевидно перекликается с некоторыми положениями теории «карнавальной культуры» М.Бахтина.
К понятию перформативности в своих работах обращались Ж.Деррида( об «успешном» перформативе, конексте, воздействии и контрасте перформатива (работа «Подпись-событие-контекст», 1972), Ю. Хабермас (о перформативности как коммуникативном способе самопрезентации) и др.
Некоторые ученые, использующие понятие перформанса и перформативности, в то же время отмечают проблему повсеместного употребления термина. "Если некоторые филологи свели все не интересующие их понятия под одно название "перформанс", то антропологи и фольклористы сделали немного, чтобы прояснить ситуацию. Мы, как правило,относим к понятию "перформанс" все, что нас интересует".
Перформативность в разных формах процессуального искусства понимается как действие художника, проиллюстрированное с помощью тела, где художник представляет самого себя перед другими людьми, т.е. он использует невербальный язык для обозначения совершающегося действия.
Итак, отметим, что существительное «перформативность» или прилашательное «перформативный» как черта существуют как в «поле культуры» - перформативные виды деятельности в жизни, так и в «поле искусства» - понятие «перформативные формы искусств». Перформативность как характеристика в широком смысле объединяет любое преформативное высказывание в жизни с искусством перформанса или другой формой акционизма наличием собственно совершаемого действия, зрителя-слушателя и подразумеваемым восприятием и реакцией публики. Можно сказать, что перформанс как произведение всегда перформативен, но не любое перформативное произведение или действие является перформансом. (источник- диссертация Антонян М.А. “Особенности рецепции перформанса: на материале работ Марины Абрамович.”, 2015)(http://sias.ru/upload/ds-antonyan/Disser_Antonian.pdf )
Батлер . Фишер-Лихте ссылается на статью Performing Feminism. Feminist Critical Theory and Theatre /1990 ed. by Sue –Ellen Case. – Baltimore/London p.270-282
Остин Дж. Как произвотить дейтсвия при помощи слов / пер. Руднева// дж. Остин Избранное. Москва – Идея Пресс 1999
По определению Джудит Батлер, телесные действия, называемые “перформативными" не служат выражению некой идентичности, а скорее создают идентичность в качестве своего значения. Отсюда следует, что тело отдельного человека с его особой материальностью тоже является результатом повторного воспроизведения определенных жестов и движений. Именно эти отдельные действия порождают тело с его индивидуальными, половыми , этническими, культурными признаками. Таким образом идентичность - как телесная и социальная реальность - постоянно формируется посредством перформативных актов.
В то же самое время ни индивидуум, ни общество не в состоянии полностью контролировать условия, в которых происходит процесс воплощения. Как индивидуум не обладает полной свободой при выборе возможностей для воплощения, а следовательно, при выборе идентичности, так и общество в свою очередь не в силах осуществить абсолютный контроль. Общество может, тем не менее, пытаясь навязать свои условия при выборе возможностей для воплощения, применяя штрафные санкции в случаях неповиновения, однако в целом оно не в состоянии предотвратить уклонение от насаждаемого порядка как таковое. Это означает, что выявленная Остином способность перформативных феноменов разрушать дихтомические структуры, очевидно, играет важную роль и в концепции Батлер. C одной стороны, посредством перформативных актов, формирующих гендер и идентичность в целом, общество осуществляет насилие над телом индивида. С другой стороны, перформативные акты предоставляют отдельной личности возможность для индивидуального воплощения, а именно – с отклонением от укоренившихся в обществе представлений, даже если это сопряжено с санкциями со стороны общества. (Эрика Фишер)
Понятие перформанса, а следовательно перформативности, до сих пор расширяется. К примеру, Роузли Голдберг автор книги “Искусство перформанса. От футуризма до наших дней.” в предисловии к книге постоянно дополняет определение перформанса. Было 4 издания книги в 1979, 1988, 2000 и в 2011 году. А поскольку Голдберг и искусствовед, и в тоже время куратор и основатель биеннале Performa, теория и практика в данном случае неразрывно связаны между собой. (далее цитата Р. Голдберг)
Голдберг рассматривает перформанс как “обращение художников к живому выступлению, которое, будучи одним из многим средств выражения их идей, сыграло важную роль в истории искусства. Перформанс рассматривался как способ воплощения в жизнь множества формальных и концептуальных идей, на которых основывается создание искусства. Непосредственные публичные жесты постоянно использовались в качестве оружия в борьбе с традициями устоявшихся жанров искусства.
Перформансы-манифесты, от футуристических до современных, были самовыражением несогласных, пытавшихся найти альтернативные способы исследования и переживания искусства в повседневной жизни. Перформанс был способом напрямую обращаться к большой аудитории и при этом – шокировать публику, заставляя ее пересматривать собственные понятия об искусстве и его связи с культурой. И наоборот, интерес публики к данному жанру, особенно в 1980-е, проистекал из явного желания этой публики получить доступ к миру искусства, быть зрителем, наблюдая за его ритуалами и его самобытным сообществом, и удивляться неожиданным, всегда оригинальным художественным актам. Произведение может быть представлено в одиночку или группой, с освещением, музыкой и визуальными эффектами, сделанными художниками самостоятельно или в сотрудничестве с другими, исполняться оно может в самых различных местах, от художественной галереи или музея до “альтернативного пространства”, театра, кафе, бара или уличного перекрестка. В отличие от театра, здесь исполнитель и есть художник: редко бывает, чтобы он, подобно актеру, изображал персонажа, а содержание его действия почти никогда не следует традиционному сюжету или нарративу. Перформанс может быть серией жестов личного характера или широкомасштабным визуальным театральным действом, продолжительностью от нескольких минут до многих часов; он может исполняться всего однажды или повторяться несколько раз, идти по заранее подготовленному сценарию или без него, быть спонтанной импровизацией или репетироваться месяцами. Перформанс - будь то племенной ритуал, средневековая мистерия о Страстях Господних, спектакль эпохи Возрождения или суаре в парижской артистической студии 1920-х – позволял художнику утвердить свое присутствие в обществе. Это присутствие, в зависимости от характера перформанса, может быть эзотерическим, шаманским, инструктивным, провокационным или развлекательным.
История искусства перформанса в XX веке – история свободного, ничем не ограниченного жанра с бесконечным числом переменных, где исполнители – художники, которым надоело втискиваться в рамки более традиционных видов художественной практики и которые твердо намерены донести свое искусство до публики напрямую. По этой причине перформанс всегда имел под собой анархическую основу. Сама природа перформанса не допускает точных или удобных дефиниций помимо того нехитрого заявления, что это – живое искусство в исполнении художников. Более строгое определение немедленно свело бы на нет саму возможность перформанса. Ведь он, не задумываясь, делает заимствования из всевозможных дисциплин и медиумов – литературы, поэзии, театра, музыки, танца, архитектуры и живописи, а также видео, кино, фотографии и повествований, - используя их во всевозможных комбинациях. По сути, столь неограниченным набором принципов не обладает никакая другая форма художественного выражения, и каждый автор перформанса, в процессе его осуществления и с присущей ему манерой исполнения, формулирует его определение по-своему.
В XXI веке резко выросло число художников по всему миру, обращающихся к перформансу, - медиуму, который позволяет выражать “различия”, присущие их собственной культуре или этнической принадлежности, и дает возможность присоединиться к более широкому дискурсу глобальной международной культуры. Особое значение придается тому, в какой степени сосредоточена на перформансе академическая среда – будь то философская, архитектурная или антропологическая, - представители которой изучают его влияние на интеллектуальную историю.” (конец цитаты)
То есть определение включает в себя много аспектов, которые сложно уложить в строго очерченные понятия.
По выражению Элин Даймонд, перформансы — это события, в которых «культура сложным образом возвещает о себе».
Ребекка Шнайдер в эссе “Performing remains. Art and war in times of theatrical reenactment” выделила нематериальные аспекты архива, которые включают в себя память тела: «позирующее тело, тело, делающие жесты, читающее слова, поющее песню или безмолвно наблюдающее, тело, склонившееся над столом в архиве над „подлинной“ рукописью или всматривающееся в экран» (с. 33)
Исторически фотография появилась раньше, чем перформанс, поэтому рассматривая тело как архив или другими словами телесную память, которая проявляется в способе позирования, движениях, жестах, мимике, танцевальных движениях, поведенческих паттернах, можно проследить как фотография повлияла на перформанс.
В перформансе есть концептуальная рамка (которая как раз отсылает нас ко времени, пространству, объекту и субъекту) и есть также процесс, который сложно вместить в какие-либо рамки. То есть концептуальная структура и феноменологический аспект в каждом перформансе срастаются по-своему.
Если провести параллель между перформансом и фотографией, как между событием и архивом (документацией события), то вспоминая про нематериальный аспект архива (про который писала Шнайдер) можно сказать, что возникает интересное пересечение в котором само событие уже содержит в себе архив (нематериальный архив).
То есть тело в фотографии уже задает репрезентационные конструкты, которые оседают затем в перформансе через тело.
C это точки зрения мы рассмотрим перформативную фотографию в этой теме.
Возможно предположить, что первая перформативная фотография была сделана в 1840 году, когда Ипполит Баярд позировал, полуголый, для его Автопортрета, изображая утопленника. Это было заявление протеста. Баярд считал, что он изобрел фотографию опередив Луи Дагера и Генри Фокс Тальбота, но затянул с докладом об открытии. Его утешительным призом было то, что, пожалуй, ему принадлежит первая вымышленная фотография, несмотря на фаталистический заголовок: ‘труп, который вы видите здесь - М. Баярд, изобретатель процесса, который только что вам показал...’, он прожил до 1887 года. В 1888 году компания Kodak представила фотокамеру Box Brownie, недорогую портативную камеру, которая дает шанс каждому сделать перформативную фотографию.

На выставке “Performing for the Camera” были экспонированы фотографии Надара. Аргумент в пользу исторической преемственности - интересный аспект этой выставки.
Cтудия Надара выпустила набор изображений звезд театра, воссоздав сцены из их популярных шоу, на фоне соответствующих декораций. Но это не только предшественники современных снимков знаменитостей, эти фотографии указывают на риторический потенциал “позы”, как конструкции статической физической позиции, наполненных коммуникативным потенциалом и повествовательным значением. Что Ролан Барт описывает как запас метафор, “грамматику” жестов, которые пришли для обозначения настроения или отношения в широких культурных контекстах, и что общественность воспринимает без обращения к конкретным объяснением. (https://www.academia.edu/27842814/Performing_for_the_camera)(Ruth Rosengarten Exhitition Review Performing for the camera)
Cтудия Надара выпустила набор изображений звезд театра, воссоздав сцены из их популярных шоу, на фоне соответствующих декораций. Но это не только предшественники современных снимков знаменитостей, эти фотографии указывают на риторический потенциал “позы”, как конструкции статической физической позиции, наполненных коммуникативным потенциалом и повествовательным значением. Что Ролан Барт описывает как запас метафор, “грамматику” жестов, которые пришли для обозначения настроения или отношения в широких культурных контекстах, и что общественность воспринимает без обращения к конкретным объяснением. (https://www.academia.edu/27842814/Performing_for_the_camera)(Ruth Rosengarten Exhitition Review Performing for the camera)

Ключевой проблемой XX века в искусстве, как и в философии и политике, стал вопрос о субъекте, о том, кто действует в культурной, социальной, исторической реальности. О том, кто ее воспринимает и проживает такой, какой она являет себя в историческом опыте Нового времени или наших дней. Почему эта, возможно, не самая очевидная проблема субъекта оказалась такой важной? Отчасти в связи с тем, что привычные, общие и неизменные основы самопонимания, Новое время закончилось, и вопросы о месте и назначении человека в мире , в значит - о субъекте действия, о соотношении между языком, действием и мыслью снова, как и в начале этой эпохи, оказались в центре внимания.
Идентичность производится силами воображаемого; не только историческим опытом, но и коллективными фантазиями, страхами и тревогами. `
Художники больше не стремятся создавать оригинальные произведения искусства. Они видят свою задачу скорее в том, чтобы создавать ситуации, включающие зрителя в производство смысла.
Cубъекты, включаемые в работу, не должны использоваться как объекты. Художник отвечает за создание условий, в которых люди, включенные в работу, те, кто действует, высказывается, выступает как индивидуум, могут представить себя в качестве субъектов, а не просто персонажей внутри авторского художественного мира. Это и есть демократия опыта, отражение культурного разнообразия современных обществ: опыт других не менее ценен, чем опыт наблюдателя.
Субъект - это тот или та, кто может самостоятельно решить, быть ли ему или ей объектом или не быть. Это - источник действия, тот или та, кто мыслит, наблюдает, высказывается, проживает реальность.
Идентичность производится силами воображаемого; не только историческим опытом, но и коллективными фантазиями, страхами и тревогами. `
Художники больше не стремятся создавать оригинальные произведения искусства. Они видят свою задачу скорее в том, чтобы создавать ситуации, включающие зрителя в производство смысла.
Cубъекты, включаемые в работу, не должны использоваться как объекты. Художник отвечает за создание условий, в которых люди, включенные в работу, те, кто действует, высказывается, выступает как индивидуум, могут представить себя в качестве субъектов, а не просто персонажей внутри авторского художественного мира. Это и есть демократия опыта, отражение культурного разнообразия современных обществ: опыт других не менее ценен, чем опыт наблюдателя.
Субъект - это тот или та, кто может самостоятельно решить, быть ли ему или ей объектом или не быть. Это - источник действия, тот или та, кто мыслит, наблюдает, высказывается, проживает реальность.
Тему сконструированной идентичности в фотографии и перформансе раскрывает Синди Шерман. Елена Петровская в книге Антифотграфия (глава “Аффекты тела”) пишет: “…гул, несущийся из- далека, вернее сказать, неизвестно откуда, - тайный ужас, внушаемый телом. Хочется добавить: «собственным» телом, но вот тут и начинаются проблемы. «Мое» тело, то, которым только и открывается доступ в мир, с трудом принадлежит «мне». Это тело является площадкой многих фантазмов - социальных, сексуальных, ролевых. Пожалуй, никогда раньше «мое» тело не было от «меня» так далеко, как сегодня, когда все работает на то, чтобы сделать его максимально совершенным и «близким». Но чем больше тело превращается в объект манипулирования, тем больше оно отчуждается и мстит. Мстит невозможностью быть когда-либо присвоенным. Этот микшированный ужас тела, растворенный эхом в повседневности и по-новому объединяющий людей, и исследует фотограф Синди Шерман.

Подчеркнем: аффекты, о которых мы говорим, носят предельно стертый характер. Они суть условия единения, условия идентичности вне всякой идентичности, линии, по которым выстраиваются (не)возможные сообщества. По сути, речь идет о призрачных ликах самой повседневности, которая в остальном по-прежнему неразличима. Она восстанавливается по маршрутам рутинных массовых передвижений, но точно так же кристаллизуется в работах, которые давно перестали быть «произведениями искусства»… Шерман славится тем, что ее фото открывали простор самым разным, часто откровенно конфликтующим интерпретациям. Постараемся ответить на простой вопрос: что общего между «Кадрами из фильмов», и всеми последующими сериями, изображающими те или иные «ипостаси» тела — от оживших «исторических» портретов и разрозненных анатомических муляжей до образов самого отталкивающе-бесформенного?

Вернемся к «Кадрам из фильмов» (1977-80) и посмотрим, что они представляют из себя в категориях жанра. Прежде всего, «film still» генетически есть промежуточный жанр - не совсем кадр, но точно так же и не вполне фотография. «Хотя они, как правило, и снимались фотоаппаратом на площадке, фотограммы (stills) никоим образом не показывают сцены, фактически отснятые. То, чего по-настоящему хотели фотографы, это схватить и передать атмосферу все еще не законченного фильма, и, памятуя об этой цели, они многое себе позволяли (they took all sorts of liberties). Сегодня некоторые из этих изображений более известны, чем фильмы, которые они рекламировали...» Такой «кадр» - это более чем кадр, он синтезирует в себе атмосферу фильма, передает его «суть». Даже если для этого приходится прибегнуть к откровенной инверсии ролей, то есть погре- шить против нарративной правды. Так произошло с «Гигантом» Джеймса Дина: образ этого фильма, благодаря известной фотограмме, связан с Элизабет Тейлор, преклонившей колени перед главным героем. Тот стоит, обвив руками ствол покоящегося на его плечах ружья, - очевидный пара- фраз сцены и иконографии распятия. Однако фильм показывал совсем другое «преклонение», а именно: героя Дина перед героиней Тейлор На ранних этапах киноистории изготовитель фото грамм - безымянный фотограф, работник той самой студии, где снимается картина. Отношение к фотограммам было вспомогательно-коммерческим - они составляли часть рекламной кампании, сопровождавшей выход фильма в прокат. Эти «кадры» выступали родом «превью», застывшим рекламным роликом, адресованным коллективному воображаемому: все, что от них требовалось, это вызывать у зрителей определенные ожидания. Можно сказать, что сама по себе конвенция stills имеет отношение к фантазиям, что их «реальность» служит лишь площадкой для перенесения, скачка - в область этих последних.

В этом смысле stills всегда будут «подлинным» напоминанием: их референт - не конкретная лента, но сплав заведомо неполного, смутного образа - смутного уже по одним его технологическим параметрам, - а также эмоций, которые его сопровождают. Шерман не только использует «код коммерческих образов (imagery)», решительно его перетолковывая, но и усиливает саму их двойственность. Ведь эти остановленные кадры с самого начала предполагают специфический режим прочтения. Режим этот задается тем, что они вдвойне лишены референта: их референтом является даже не фильм, сам по себе отсылающий к вымыслу, но всего лишь образ этого фильма.

Особенность такого образа состоит, однако, в том, что он сразу же - первоначально - возникает как внешний: образ этот не принадлежит индивидуальному сознанию. Он появляется на пересечении рекламы и кинематографа - двух анонимных потоков желаний. И поэтому он приходит «оттуда» - как то, что разделяется всеми до того, как это разделяемое может стать «моим» или «твоим». Замороженный кадр, эта промежуточная, плохо атрибутируемая форма, есть образ самой коллективной связи, ее случайная кристаллизация. Но в качестве таковой он и остается трудно уловимым: это всего лишь локус разных ожиданий. В том числе и ожидания повествования. В фотограмме в свернутом виде содержится и это удовольствие - удовольствие, какое таит в себе нерассказанный рассказ. И Шерман не столько «изображает» желание - при помощи ли женских типажей, и/или ра- зыгрывая ситуацию властного мужского взгляда, - сколько демонстрирует его подвижность и поливалентность - желание скользит по поверхности образа, выхватывая отдельные его элементы, только чтобы тут же их отбросить: элементы эти для него всегда случайны. Двойственность фотограмм усиливается тем, что Артур Данто определяет как единство (но и напряжение) между перформансом и фотографией. При этом жанровая уникальность stills заключается еще и в том, что принимаемая в них поза априорным образом фотографична: она взята из языка самих фотограмм, и даже если бы ее никогда не засняли на пленку, все равно она фигурировала бы как «фотографический эквивалент tableau vivant». Фотоаппарат, иначе говоря, входит в сам «состав» такого ос- тановленного кадра.

Однако это совпадение как раз и запускает в ход иной механизм - на сей раз различительный. Он проявляется, в частности, в отношении к самим изображениям. Если одни критики видят в «Stills» почти брехтовское, то есть сознательно отстраняющее, использование приема и материала, когда «нет убедительности», например, в подобранных костюмах, то другие, напротив, хвалят Шерман за то, что она -«высокий художник», способный «надлежащим образом» выстроить жанровые типы, будь то suspense, film noir или нео- реализм*. Мы уже говорили о том, что искусственность и даже небрежность шермановских «кадров» является условием их «совершенства»: глаз зрителя получает в них лишь визуальную под- сказку. Позы Шерман, возможно, точны, но равным образом необязательны - они и должны быть своеобразными частичными объектами. «Попадание» Шерман, ее «точность» заключаются в том, что изображение должно смещаться в область неизобразимого, вернее, оно должно с самого начала предусматривать возможность собственного искажения. Образ дан как зыбкий уже на уровне са- мих условий восприятия: фотография, сведенная к набору поз, значит - откровенным образом «не- видная»; кино, существующее лишь в двойном предощущении виртуальных фильма и рассказа. Примечательно, что still и объединяет в себе различные типы неполноты, представленные в виде стольких обещаний (это, пожалуй, и есть единственное «место» представления): фотография обещает кино, кино обещает рассказ, рассказ, препарированный в фото, обещает удовлетворение. Однако эта система перекрестных ссылок и образует фактическую полноту любого остановленного кадра: он держится круговой порукой взаимоподкрепляемых желаний. Исследуя пустую оболочку «кадра», Шерман тем самым обнажает структуру самой коллективной мечты.”

Мерло-Понти в “Феноменологии восприятия”, размышляя о теле как объекте выявляет два дефекта. “Согласно этой гипотезе, анозогнозия – это отсутствие в представлении тела какого-то фрагмента, который тем не менее должен быть налицо, поскольку соответствующий орган на месте; а фантомный орган – это присутствие части представления тела, которой у нас не должно быть, поскольку соответствующий орган отсутствует… фантомный орган становится воспоминанием, позитивным суждением или восприятием, а анозогнозия – забвением, суждением негативным или отсутствием восприятия…В действительности анозогнозик не просто игнорирует парализованный орган: он способен отвлечься от дефекта лишь потому, что знает, где ему надо опасаться встречи с ним…мы избегаем вопросов, чтобы не услышать эту тишину.”
“Тело – это то, что сообщает миру бытие, и обладать телом означает для живущего сращиваться с определенной средой, сливаться воедино с определенными проектами и непрерывно в них углубляться.”
То есть позирование, в котором проявляется объективация тела, можно рассмотреть как парализованную часть субъекта. К примеру Линдер (LINDER) в проекте She/Sheповторяет позы из модных журналов и добавляет к своему телу обрывки из них, выявляя тем самым “застывшие” части женской идентичности, которые формирует массовая культура.
“Тело – это то, что сообщает миру бытие, и обладать телом означает для живущего сращиваться с определенной средой, сливаться воедино с определенными проектами и непрерывно в них углубляться.”
То есть позирование, в котором проявляется объективация тела, можно рассмотреть как парализованную часть субъекта. К примеру Линдер (LINDER) в проекте She/Sheповторяет позы из модных журналов и добавляет к своему телу обрывки из них, выявляя тем самым “застывшие” части женской идентичности, которые формирует массовая культура.




Ролан Барт в Camera lucida пишет: “Фотопортрет представляет собой закрытое силовое поле. На нем пересекаются, противостоят и деформируют друг друга четыре вида воображаемого. Находясь перед объективом, я одновременно являюсь тем, кем себя считаю, тем, кем я хотел бы, чтобы меня считали, тем, кем меня считает фотограф, и тем, кем он пользуется, чтобы проявить свое искусство. Странное, иначе говоря, действо: я непрестанно имитирую самого себя, и в силу этого каждый раз, когда я фотографируюсь (позволяя себя сфотографировать), меня неизменно посещает ощущение неаутентичности, временами даже поддельности, какое бывает при некоторых кошмарах.” (c. 24)
Развивая тему идентичности в цифровой среде, Amalia Ulman в проекте Excellences & Perfections создает аккаунт в инстаграм https://www.instagram.com/amaliaulman/?hl=en
Художница сконструировала симулякр социальных сетей, копируя позы и популярные фотографии инстаграма. Большинство подписчиков не понимали, что это художественный проект.
То есть Amalia Ulman выявила стереотипные, собирательные позы и изображения, которые утрируют вопрос отсутствия оригинала, как в ее проекте, так и в фотографиях, которые она копирует.
(текст мой)
упоминание проекта - http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/performing-for-the-camera-5-key-artists
Художница сконструировала симулякр социальных сетей, копируя позы и популярные фотографии инстаграма. Большинство подписчиков не понимали, что это художественный проект.
То есть Amalia Ulman выявила стереотипные, собирательные позы и изображения, которые утрируют вопрос отсутствия оригинала, как в ее проекте, так и в фотографиях, которые она копирует.
(текст мой)
упоминание проекта - http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/performing-for-the-camera-5-key-artists
Амалия Ульман
Меня всегда привлекали мистификации и вымысел. В начале 2010-х я подписалась на аккаунты нескольких девушек, которые занимались шугар-дейтингом (sugar dating, ближайший русскоязычный аналог — содержанки. — TANR). Они буквально курировали собственные персоны в интернете, включая макияж и прическу. Постили соответствующие мудборды (доски настроения), писали определенные вещи. Снимали селфи в роскошных местах, будто бы украшая себя и повышая шансы на успешное знакомство. Меня завораживало подобное производство самих себя и очень нравилось следовать в Instagram за этими людьми, которых я совершенно не знала, общаться на языке, который едва понимала.
Я сделала перформанс в Instagram, который не был привычной платформой для подобных проектов. В соцсетях от тебя ждут искренности или по крайней мере реальности, а не вымысла. Я начала публиковать собственные фотографии в своем аккаунте. Поначалу складывалось ощущение, что у меня все благополучно и я превращаюсь в ходячее клише. Затем со мной происходили странные превращения. Люди, в том числе знавшие меня как художницу, реагировали на происходящее, иногда даже буллили меня. Все это было частью моей задумки: перформанс происходил в зазоре между постами в ленте, реакциями людей и обратной связью с их стороны, слухами, что со мной не так, и пр.
Меня всегда привлекали мистификации и вымысел. В начале 2010-х я подписалась на аккаунты нескольких девушек, которые занимались шугар-дейтингом (sugar dating, ближайший русскоязычный аналог — содержанки. — TANR). Они буквально курировали собственные персоны в интернете, включая макияж и прическу. Постили соответствующие мудборды (доски настроения), писали определенные вещи. Снимали селфи в роскошных местах, будто бы украшая себя и повышая шансы на успешное знакомство. Меня завораживало подобное производство самих себя и очень нравилось следовать в Instagram за этими людьми, которых я совершенно не знала, общаться на языке, который едва понимала.
Я сделала перформанс в Instagram, который не был привычной платформой для подобных проектов. В соцсетях от тебя ждут искренности или по крайней мере реальности, а не вымысла. Я начала публиковать собственные фотографии в своем аккаунте. Поначалу складывалось ощущение, что у меня все благополучно и я превращаюсь в ходячее клише. Затем со мной происходили странные превращения. Люди, в том числе знавшие меня как художницу, реагировали на происходящее, иногда даже буллили меня. Все это было частью моей задумки: перформанс происходил в зазоре между постами в ленте, реакциями людей и обратной связью с их стороны, слухами, что со мной не так, и пр.




Мерло-Понти в “Феноменологии восприятия” останавливается на следующих аспектах телесного: «Если нам случится обнаружить опыт за пределами объективного мышления, то этот переход будет обусловлен только его собственными затруднениями. Так рассмотрим же его в деле, то есть в организации нашего тела как объекта, ибо решающий момент в генезисе объективного мира. Мы увидим, что собственное тело ускользает – в той же науке – от режима, который ему хотят навязать. И поскольку генезис объективного тела – это всего лишь момент в конституировании объекта, покидая объективный мир, тело увлекает за собой интенциональные нити, которые связывают его с его окружением, и в итоге являет нам как воспринимающего субъекта, так и воспринимаемый мир… Всякое настоящее может заявлять свое право на то, чтобы остановить нашу жизнь, это как раз и определяет его в качестве настоящего. Коль скоро оно выдает себя за тотальность бытия и на мгновение заполняет сознание, нам никогда не выбраться из него полностью, но время не исчерпывается им окончательно, оно остается чем-то вроде раны, через которую истекает наша сила. С тем большим основанием это особое прошлое, каким является наше тело, может быть схвачено и присвоено индивидуальной жизнью лишь потому, что она так и не вышла за его пределы, что она потихоньку его питает и тратит на него какую-то часть своих сил, что это прошлое остается ее настоящим, как это можно видеть во время болезни, когда события тела становятся событиями дня.”
Джиллиан Уэринг воссоздала ряд фотографий из своего семейного альбома. При помощи силиконовых масок она примерила на себя образы своих близких и себя самой в возрасте 3 и 17 лет. Художница отмечала, что её всегда поражало, насколько разными могут быть люди, даже несмотря на генетические связи. Единственное, что «роднит» все эти фотографии, это взгляд самой Джиллиан Уэринг, который узнается под всеми масками. Кроме того, вокруг глаз можно заметить контур маски, который специально был оставлен, дабы зритель мог осознавать, что именно он видит перед собой.
(http://contemporary-artists.ru/Gillian_Wearing.html)
То есть художница проявляет телесные “фантомы-воспоминания” про которые писал Мерло-Понти, этой части уже нет, но мы ощущаем ее присутствие.
“ Фантомная рука – это как бы вытесненный опыт, былое настоящее, которое никак не хочет становиться прошлым.”(c 123)
(http://contemporary-artists.ru/Gillian_Wearing.html)
То есть художница проявляет телесные “фантомы-воспоминания” про которые писал Мерло-Понти, этой части уже нет, но мы ощущаем ее присутствие.
“ Фантомная рука – это как бы вытесненный опыт, былое настоящее, которое никак не хочет становиться прошлым.”(c 123)

(GILLIAN WEARING Self-Portrait at Three Years Old, 2004)

(GILLIAN WEARING Self-Portrait 17 years old)

(В маске отца в 23 года, 2003 )

В маске матери в 23 года, 2003

(В маске сестры в 16 лет, 2003)
Джоанна Пиотровска, из серии FROWST,
Польский фотограф Иоанна Пиотровска в своем проекте Frowst (англ. духота, спёртый воздух) делает постановочные фотографии, опираясь на метод семейных расстановок психотерапевта Берта Хеллингера. Взрослые люди воссоздают сцены из собственного детства. Изучая семью как систему связей, она создает грамматику повседневных действий. Поиск теплоты оборачивается ощущением удушья у зрителя, а интимность этих сцен вызывает дискомфорт.
На чёрно-белых фотографиях, преимущественно, пары людей в домашнем интерьере. Они почти не смотрят в камеру, так как полностью отданы взаимодействию друг с другом. В таком описании фотографий нет ничего необычного, если бы не одна важная деталь.
Пиотровску интересуют семейные отношения как система взаимосвязей между людьми, которые долго находятся вместе. И эта взаимосвязь предстаёт в её фотографиях со всей неопределённостью, которая может быть свойственна семейным отношениям. С одной стороны — это телесная близость в самых простых формах: объятия, прикосновения, нахождение рядом. С другой — герои сцен, взрослые люди, которым не свойственны позы, которые они принимают, а связь или степень родства между ними неочевидна. Создаётся ощущение, что её персонажам приходится играть роли.
Похожий метод (который интересовал автора) в психологии называют расстановкой. В английском языке его называют constellation, то есть «созвездие». В понимании автора, семья — это не объединение похожих людей, но связи, которые возникают между людьми, у которых, на первый взгляд, нет ничего общего.
В одном из интервью Джоанна Пиотровска говорит: «Я надеялась, что образы вызовут неудобные ассоциации у зрителей. Я искала жесты и позы, значение которых не считываются однозначно. Некоторые идеи возникли при исследовании семейных расстановок (как теоретических, так и практических) [1], некоторые из них — следствие моего опыта, а некоторые — из семейных фотографий других людей».
FROWST — это серия о незаметных связях и напряжении между людьми: как если бы между точками в созвездиях появились нити, которые существуют только в нашем воображении.
Польский фотограф Иоанна Пиотровска в своем проекте Frowst (англ. духота, спёртый воздух) делает постановочные фотографии, опираясь на метод семейных расстановок психотерапевта Берта Хеллингера. Взрослые люди воссоздают сцены из собственного детства. Изучая семью как систему связей, она создает грамматику повседневных действий. Поиск теплоты оборачивается ощущением удушья у зрителя, а интимность этих сцен вызывает дискомфорт.
На чёрно-белых фотографиях, преимущественно, пары людей в домашнем интерьере. Они почти не смотрят в камеру, так как полностью отданы взаимодействию друг с другом. В таком описании фотографий нет ничего необычного, если бы не одна важная деталь.
Пиотровску интересуют семейные отношения как система взаимосвязей между людьми, которые долго находятся вместе. И эта взаимосвязь предстаёт в её фотографиях со всей неопределённостью, которая может быть свойственна семейным отношениям. С одной стороны — это телесная близость в самых простых формах: объятия, прикосновения, нахождение рядом. С другой — герои сцен, взрослые люди, которым не свойственны позы, которые они принимают, а связь или степень родства между ними неочевидна. Создаётся ощущение, что её персонажам приходится играть роли.
Похожий метод (который интересовал автора) в психологии называют расстановкой. В английском языке его называют constellation, то есть «созвездие». В понимании автора, семья — это не объединение похожих людей, но связи, которые возникают между людьми, у которых, на первый взгляд, нет ничего общего.
В одном из интервью Джоанна Пиотровска говорит: «Я надеялась, что образы вызовут неудобные ассоциации у зрителей. Я искала жесты и позы, значение которых не считываются однозначно. Некоторые идеи возникли при исследовании семейных расстановок (как теоретических, так и практических) [1], некоторые из них — следствие моего опыта, а некоторые — из семейных фотографий других людей».
FROWST — это серия о незаметных связях и напряжении между людьми: как если бы между точками в созвездиях появились нити, которые существуют только в нашем воображении.



Амелиа Джонс в статье «The “Eternal Return”: Self-Portrait Photography as a Technology of Embodiment» рассматривает серию Ханны Вилке (Hannah Wilke) Intra Venus, в которой больная раком художница делает автопортреты.

И Амели Джонс через эту серию выявляет общее пространтсво, которое содержат в себе присутствие и отсутствие, жизнь и смерть, перформанс и фотография. То есть на фотографии умирающая художница, которая пока еще жива, но в тоже время есть знание о скорой смерти, то есть точка отсутствия в присутствии. И также фотография вместе с отсутствием события, предъявляет его присутствие в форме отпечатка.

(http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Derr/podp.php )
Жак Деррида в тексте “Подпись, событие, контекст” (Derrida, Jacques. 1982. “Signature Event Context.”) пишет:
“Может ли перформативное высказывание быть удачным, если его формулировка не повторяет "кодированное" высказывание или итерабельное, другими словами, если та формула, которую я произношу, чтобы открыть заседание, спустить на воду судно или жениться, не идентифицируема как соответствующая итерабельной модели, если всё же она не идентифицируема каким-то образом как "цитата".
Отсрочивание, нередуцируемое отсутствие интенции или содействия в перформативном высказывании, наиболее "событийном", - вот что позволяет мне, учитывая предикаты, о которых я только что напомнил, предложить всеобщую графематическую структуру любой "коммуникации". Я не собираюсь извлекать отсюда следствие, что нет никакой специфичности воздействия сознания, воздействия речи (в оппозиции письму в традиционном смысле), что нет никаких воздействий перформатива, присутствия и дискурсивного события (speech act), обыденного языка. Просто эти воздействия не исключают того, что их почленно противопоставляют, допуская их несимметричные отношения как общее пространство их возможности.
Это общее пространство - прежде всего промежуток как перерыв присутствия в следе - то, что я называю здесь письмом. Все затруднения, встреченные Остином, пересекаются в точке, которая одновременно является присутствием и письмом.
По определению, письменная подпись содержит в себе актуальное или эмпирическое не-присутствие подписывающего. Но она тоже оставляет след и удерживает своё настоящее в теперь-прошедшем, которое останется теперь-будущим, значит, в "теперь"-всеобщем, в форме трансцендентального "теперь". Эта всеобщая "теперешность" каким-то образом вписана, наколота в своей присутствующей пунктирности, всегда очевидная и всегда неповторимая, в форме подписи. Здесь загадочная неповторимость всех росчерков. Чтобы привязка к источнику воспроизводилась, нужно закрепить абсолютную неповторимость события подписи и формы подписи: чистая воспроизводимость чистого события. “ ”…оппозиция метафизических концепций (например, "речь/письмо", "присутствие/отсутствие" и т.д.) не визави двух членов, но иерархия и порядок субординации. Деконструкция не может ограничиться нейтрализацией: она должна в двойном жесте, в двойной науке, в двойном письме, осуществить опрокидывание классической оппозиции и общее смещение системы. Только на этом единственном основании деконструкция предоставляет себе средства вторжения в поле оппозиций, которое она критикует и которое также является полем не-дискурсивных сил.» (конец цитаты)
(Остин под перформативностью понимает речь, а подпись как след речи, можно провести аналогию с событием и документацией)
В фотографии Breath on Piana Габриэля Орозко (Gabriel Orozco) мы видим след дыхания художника, то есть присутствие, которое фотография продливает в вечность.
Жак Деррида в тексте “Подпись, событие, контекст” (Derrida, Jacques. 1982. “Signature Event Context.”) пишет:
“Может ли перформативное высказывание быть удачным, если его формулировка не повторяет "кодированное" высказывание или итерабельное, другими словами, если та формула, которую я произношу, чтобы открыть заседание, спустить на воду судно или жениться, не идентифицируема как соответствующая итерабельной модели, если всё же она не идентифицируема каким-то образом как "цитата".
Отсрочивание, нередуцируемое отсутствие интенции или содействия в перформативном высказывании, наиболее "событийном", - вот что позволяет мне, учитывая предикаты, о которых я только что напомнил, предложить всеобщую графематическую структуру любой "коммуникации". Я не собираюсь извлекать отсюда следствие, что нет никакой специфичности воздействия сознания, воздействия речи (в оппозиции письму в традиционном смысле), что нет никаких воздействий перформатива, присутствия и дискурсивного события (speech act), обыденного языка. Просто эти воздействия не исключают того, что их почленно противопоставляют, допуская их несимметричные отношения как общее пространство их возможности.
Это общее пространство - прежде всего промежуток как перерыв присутствия в следе - то, что я называю здесь письмом. Все затруднения, встреченные Остином, пересекаются в точке, которая одновременно является присутствием и письмом.
По определению, письменная подпись содержит в себе актуальное или эмпирическое не-присутствие подписывающего. Но она тоже оставляет след и удерживает своё настоящее в теперь-прошедшем, которое останется теперь-будущим, значит, в "теперь"-всеобщем, в форме трансцендентального "теперь". Эта всеобщая "теперешность" каким-то образом вписана, наколота в своей присутствующей пунктирности, всегда очевидная и всегда неповторимая, в форме подписи. Здесь загадочная неповторимость всех росчерков. Чтобы привязка к источнику воспроизводилась, нужно закрепить абсолютную неповторимость события подписи и формы подписи: чистая воспроизводимость чистого события. “ ”…оппозиция метафизических концепций (например, "речь/письмо", "присутствие/отсутствие" и т.д.) не визави двух членов, но иерархия и порядок субординации. Деконструкция не может ограничиться нейтрализацией: она должна в двойном жесте, в двойной науке, в двойном письме, осуществить опрокидывание классической оппозиции и общее смещение системы. Только на этом единственном основании деконструкция предоставляет себе средства вторжения в поле оппозиций, которое она критикует и которое также является полем не-дискурсивных сил.» (конец цитаты)
(Остин под перформативностью понимает речь, а подпись как след речи, можно провести аналогию с событием и документацией)
В фотографии Breath on Piana Габриэля Орозко (Gabriel Orozco) мы видим след дыхания художника, то есть присутствие, которое фотография продливает в вечность.

Ana Mendieta в серии скульптурных перформансов Silueta исследует тему отсутствия и присутствия. В возрасте 12 лет из соображений безопасности, она вынуждены была покинуть Кубу. И в перформансе, оставляя отпечатки на природной поверхности, она проживала этот травматичный опыт и восстанавливала связь с родной землей.
https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/ana-mendieta
https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/ana-mendieta
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
Роман Ондак Очередь
Перформанс «Хорошие ощущения в хорошие времена» — это искусственно созданная очередь длиной от 7 до 12 (на улице — до 15) человек, придуманная словацким художником Романом Ондаком в 2003 году (описание перформанса и права на его воспроизведение ныне принадлежат галерее Тейт Модерн). В инструкции к перформансу говорится, что очередь должна неожиданно возникать на 40 минут в час (а затем так же неожиданно расходиться) в любом подходящем месте выставочного зала или рядом с ним (в том числе перед его входом) и может появляться несколько раз в день. Участники перформанса — специально нанятые актеры или волонтеры, одетые в повседневную одежду, которые должны вести себя максимально естественно, а на вопросы зрителей, не подозревающих о том, что эта за очередь и куда она стоит, должны импровизировать, не раскрывая того, что это художественная акция. Ондак так объясняет появление этой работы: «В 1970-е и 1980-е перед магазинами часто выстраивались очереди. В те, как принято было говорить, тяжелые времена люди способны были терпеливо стоять в очереди и при этом чувствовать себя хорошо, поскольку надеялись, что в конце концов им достанется то, что они ждут» (Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 299).
Перформанс «Хорошие ощущения в хорошие времена» — это искусственно созданная очередь длиной от 7 до 12 (на улице — до 15) человек, придуманная словацким художником Романом Ондаком в 2003 году (описание перформанса и права на его воспроизведение ныне принадлежат галерее Тейт Модерн). В инструкции к перформансу говорится, что очередь должна неожиданно возникать на 40 минут в час (а затем так же неожиданно расходиться) в любом подходящем месте выставочного зала или рядом с ним (в том числе перед его входом) и может появляться несколько раз в день. Участники перформанса — специально нанятые актеры или волонтеры, одетые в повседневную одежду, которые должны вести себя максимально естественно, а на вопросы зрителей, не подозревающих о том, что эта за очередь и куда она стоит, должны импровизировать, не раскрывая того, что это художественная акция. Ондак так объясняет появление этой работы: «В 1970-е и 1980-е перед магазинами часто выстраивались очереди. В те, как принято было говорить, тяжелые времена люди способны были терпеливо стоять в очереди и при этом чувствовать себя хорошо, поскольку надеялись, что в конце концов им достанется то, что они ждут» (Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 299).


Софи Калль достаточно ироничный художник. Чтобы не вдаваться в особенность построения ее сознания, достаточно сказать, что собственные переживания она склонна рассматривать как остаточные знаки времени, в котором уже не существует героя, переживания и боли. В этом смысле ее работа, в которой письмо друга/любовника/самой главной истории ее жизни тотально десакрализуется, становится как раз признаком новой чувственности (Take Care of Yourself, 2007). Калль отдает это письмо на растерзание – его читают знаменитые актрисы, певицы, писательницы, философы, в общем количестве ста семи, насмехаясь и презирая его. Они прочитывают его миллионы раз, разрывают на куски, отдают на поедание попугаю, поют его текст, в котором только одно – признание в отсутствии любви. Софи Калль в этом смысле, возможно, совпадает по степени цинизма с Андреа Фрейзер, которая воспроизводит, точнее, вытесняет эмоциональную боль методом самой боли, перенесенной на другого.





Софи Калль, проект «Take Care of Youself», 2007 // Modus Vivendi, La Virreina Image Center, Barcelona, 2015
Калль как раз существует в границе другого – любовника, которого она предельно обнажает – буквально и метафорически. Однако эта метафора в большей степени касается самой Калль, чем ее героев. В конечном счете в борьбе с порой надоедающими откровениями, приходится ловить себя на мысли, что здесь есть какая-то пресыщенность, ненужный объем, максимальная вычурность, даже пошлость. Но Калль отдает себе отчет , что исполняет роль, играет в маску. Единственное ее переживание все равно остается за кадром. В этом смысле тем более любопытно, как выстраивается система маски. Во-первых, через персонажа. Во-вторых, посредством мифа. В-третьих, в нарушении табу. Естественно, что эти признаки перемежаются между собой.
К примеру, миф. О нем можно говорить применительно к серии «Слепые» (1986). Софи Калль опросила нескольких невидящих людей о том, чем для них является образ красоты. Этот образ красоты в конечном счете стал элементом метаязыка Софи Калль и метавысказывания персонажа. Похоже, Софи Калль надевает здесь двойную маску. С одной стороны – она также слепа, как те слепые, которым она задает один и тот же вопрос, с другой – она, снова как слепая, спрашивает саму себя о красоте и ее вселенском присутствии. Естественно, что художник крадет изображение у слепых, однако он же его достраивает. То есть, Софи Калль предлагает тот образный метафорический язык, который вытесняет его эстетический потенциал. Есть представление о красоте и существует возможность его буквального воплощения (представление о море аналогично его фотографическому воплощению, почти документальное перенесение вербальной идеи), которая Калль присваивается в качестве идеи прекрасного.

Софи Калль, Слепые, 1986 // Modus Vivendi, La Virreina Image Center, Barcelona, 2015
Здесь как раз парадоксальным образом проявляется уродливое: в силу крайней предсказуемости фотографических кадров, не возникает их естественная перцепция, вглядывание/рассматривание строится на уровне глаз персонажа, закрытых или полузакрытых, поднятых наверх или сильно опущенных вниз, одним словом, глаз слепых. Через это отсутствующее зрение Калль пытается манипулировать сознанием зрителя, его представлением о чем-то более, или менее конкретном. Это конкретное есть у художника – слепой (Blind, 1986), любовник (Take Care of Yourself, 2007), воображаемый муж (Double Blind (No Sex Last Night), 1992) и естественно вся мифология личной, сексуальной, эмоциональной, вытесненной, закомплексованной мифологической и десакрализированной жизни Софи Калль (True Stories/Autoboographies, 2010 и конечно же L'Autre, 1992). L'Autre/«Другой» на самом деле становится квинтессенцией художественного/личного поиска Софи Калль. Художник выбирает некий объект – более или менее чувственный, передает ему собственную чувственность, сначала боится и стесняется, а потом, наконец, открывая глаза, приобретает новое зрение. Поэтому в Софи Калль скрыто все сомнение, эмоциональный всплеск и боль, которые естественным образом выделают каждого адепта и делают его исключительным, но одновременно объединяют сознание тотального чувства, связанного с эвфемизмами «любовь» и «жертва».
Финская художница Пилви Такала проверяет на прочность общественные нормы и условности. Однажды она пришла в Диснейленд в костюме Белоснежки, и её прогнали сотрудники, в другой раз прогуливаясь по торговому центру с прозрачной сумкой, полной денег, чем нервировала охрану. Ещё в одном проекте она собрала нескольких детей и предложила им самостоятельно потратить семь тысяч фунтов. Пилви - один из самых ярких авторов, работающих в рамках комьюнити-арта, когда произведение создается специально для определенного сообщества, например сотрудников одной компании, посетителей банка или воспитанников детского центра.

Real Snow White, 2009
Абсурдная логика "реального персонажа" и суровая дисциплина Диснейленда становятся очевидными, когда настоящему поклоннику диснеевской "Белоснежки" запрещено входить в парк в костюме Белоснежки. Поскольку посетителям предлагается наряжаться, а в парке продается множество товаров, похожих на костюмы, полные костюмы продаются только для детей. Слоган Disney "Мечты сбываются", конечно же, означает мечты, созданные исключительно Disney. Все, что даже слегка выходит из-под контроля, немедленно вызывает страх перед тем, что эти реальные, возможно, темные и извращенные мечты сбудутся. Фантазия о том, что невинная Белоснежка совершает что-то плохое, настолько очевидна, что охранники и администрация ссылаются на нее, объясняя, почему посетитель не может войти в парк в костюме Белоснежки.
Абсурдная логика "реального персонажа" и суровая дисциплина Диснейленда становятся очевидными, когда настоящему поклоннику диснеевской "Белоснежки" запрещено входить в парк в костюме Белоснежки. Поскольку посетителям предлагается наряжаться, а в парке продается множество товаров, похожих на костюмы, полные костюмы продаются только для детей. Слоган Disney "Мечты сбываются", конечно же, означает мечты, созданные исключительно Disney. Все, что даже слегка выходит из-под контроля, немедленно вызывает страх перед тем, что эти реальные, возможно, темные и извращенные мечты сбудутся. Фантазия о том, что невинная Белоснежка совершает что-то плохое, настолько очевидна, что охранники и администрация ссылаются на нее, объясняя, почему посетитель не может войти в парк в костюме Белоснежки.
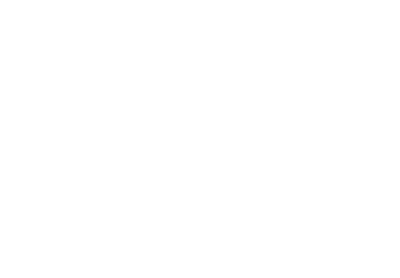

Женщина с сумкой
Перформанс длился неделю: Пилки прогуливалась по торговому центру с прозрачной пластиковой сумкой, полной наличных. Она вела себя как образцовый покупатель, в то же время воспринималась охранниками и другими посетителями как угроза общественной безопасности, как человек, требующий повышенного внимания. Свою задачу художница видела в том, чтобы разрушить атмосферу комфорта и безопасности, царящую в магазине, и показать хрупкость того социального порядка, где частная собственность настолько священна, что требует постоянного контроля со стороны окружающих.
Перформанс длился неделю: Пилки прогуливалась по торговому центру с прозрачной пластиковой сумкой, полной наличных. Она вела себя как образцовый покупатель, в то же время воспринималась охранниками и другими посетителями как угроза общественной безопасности, как человек, требующий повышенного внимания. Свою задачу художница видела в том, чтобы разрушить атмосферу комфорта и безопасности, царящую в магазине, и показать хрупкость того социального порядка, где частная собственность настолько священна, что требует постоянного контроля со стороны окружающих.

Пилви Такала стала лауреатом премии Emdash 2013, направленной на создание нового произведения искусства для Frieze Art Fair. Художница пригласила группу детей в возрасте от 8 до 12 лет, которые были постоянными посетителями молодежного центра в Боу, Лондон, потратить свою награду. Они были вольны тратить деньги так, как им заблагорассудится, а также выбирать, как они будут формулировать решения как группа. В Комитете дети объясняют, как они решили потратить призовой фонд в размере 7000 фунтов стерлингов, они обсуждают процесс принятия решений и ценности, которыми руководствуются при принятии решений.
Christian Boltanski
«The Life of C.B.»
2010 - 2021
В рамках работы, Кристиан Болтански продал свою жизнь коллекционеру.
В 2010 году Кристиан Болтански отдал часть своей жизни в пожизненную ренту: в мастерской художника висела веб-камера, которая в прямом эфире транслировала деятельность Болтански на экран музея MONA вплоть до его смерти.
Один коллекционер в 2009 году предположил, что Болтански осталось жить не более восьми лет, и согласился платить ему на протяжении этого срока солидный пенсион, рассчитывая взамен на эксклюзивных основаниях получить видеозапись того, как художник умрет в прямом эфире - и проиграл.
Австралийский коллекционер произведений искусства и азартный игрок Дэвид Уолш заявил, что произведение искусства, которое он заказал в 2010 году у Кристиана Болтански, скончавшегося в июле 2021 года, останется «архивом великого творца».
Уолш, основатель и владелец Музея старого и нового искусства Тасмании (MONA), имел в виду работу «Жизнь Си Би». Три видеокамеры, установленные в парижской студии художника, снимали художника 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и транслировали запись в музей.
Верный своей азартной натуре, Уолш включил в работу пари. Он согласился заплатить за произведение нераскрытую сумму и передать ее Болтански ежемесячными платежами в течение восьми лет. По условиям, если Болтански умрёт до истечения восьми лет, Уолш получит работу дешевле оговоренной стоимости. Но если Болтански переживет этот срок, он выиграет, продолжая получать ежемесячные платежи от Уолша.
В итоге Болтански выиграл пари. Он прожил еще три года и скончался в июле 2021 года.
Проект «The Life of C.B.» прекратился в субботу, 17 июля. Прямая трансляция была завершена. На запертых полках остались тысячи Blue-ray дисков с многолетней записью студии.
-----
Из интервью с художником:
- И то, что вы продали свою жизнь в пожизненную ренту, — это тоже часть мифотворчества?
- Да, это миф одного человека с Тасмании, который купил мою жизнь (Дэвид Уолш, тасманийский миллиардер, заработал состояние на ставках. — TANR). Сейчас у него тысячи и тысячи DVD с записью моей жизни. В день по диску, и так уже десять лет. И в то же время это опять парабола, притча: можно ли купить чью-то жизнь и можно ли жить, постоянно наблюдая за чьей-то жизнью? Конечно, нет. С одной стороны, он купил мою жизнь. С другой, он ничего не получает. Ну почесал я нос — и что дальше? Никакой информации обо мне это не дает. Единственная ценность этих DVD состоит в том, что они фиксируют процесс моего старения. Камера установлена на лестнице, по которой мне все сложнее подниматься.
- Выгодно хотя бы продали?
- Очень. Даже торговались почти полгода. Один нотариус во Франции, второй в Австралии. Команда врачей, масса бумаг. Мне, например, было любопытно узнать, что будет, если он умрет первым, хотя он гораздо моложе меня, ему всего 50 лет.
- И что тогда?
- Действие контракта прерывается с первой смертью. Счетчик останавливается. Он думал, что я умру до того, как он мне выплатит всю сумму, изначально прописанную в контракте. Это были ежемесячные выплаты. Но вот теперь, уже несколько месяцев, он мне переплачивает: та сумма уже истекла.
- Кроме мифа в этой истории есть еще тема случайности, к которой вы постоянно возвращаетесь.
- Конечно. Это же чистой воды «Фауст», сделка с дьяволом. Человек заработал огромные деньги на ставках. Он говорит, что никогда не проигрывает, что поборол случайность — а это дьявольщина. Но тут получается, что он проигрывает, ведь по его расчетам я должен был уже умереть. Мы виделись в декабре прошлого года, примерно в тот момент, когда отпущенный мне срок истекал. За деньги я не волнуюсь — с ними у него все в порядке, — а вот принципы, похоже, пошатнулись.
-----
Из интервью с Дэвидом Уолшем:
16 июля, Уолш написал в своем блоге, что впервые встретил Болтански в ресторане в Париже. «Напились мы. И нам было весело», — написал он.
«Кристиан почти не говорил по-английски, а я говорю только по-английски, но Кристиан прекрасно мог общаться со мной при помощи жестов, случайных кивков и лукавого подмигивания.
«Кристиан говорил (и жестикулировал) о проектах, которые он реализовал, и о тех, которые планировал: хранилище биений сердца на протяжении поколений, хранилище всех телефонных книг в мире. И предложение для меня: камеры в его студии, показывающие его творческий процесс. Работа с большой концептуальной глубиной, но оформленная как ставка на то, что он умрет прежде, чем соберет достаточную плату за свою работу.
«Его студия транслировалась в Моне в прямом эфире более десяти лет. В субботу отключат. А работа остается — архив великого творца, который стабильно и без драмы делает и делает мир лучше.
-----
Человек, с детства говоривший о смерти, вроде бы должен быть готов к ней. Болтански охотно рассуждал в том духе, что раньше он говорил о чужой смерти, а теперь все больше о своей, и что он хотел бы умереть медленно, с чувством, с толком, с расстановкой, сделав все дела. Судьба вывернула все на свой лад: он умер 14 июля, в День взятия Бастилии, главный праздник Французской Республики, чьим бесспорным героем он являлся. Ушел раньше, чем всем хотелось бы, но зато успев победить своего тасманского Мефистофеля, Дэвида Уолша.
Кристиан Болтански оставил после себя множество работ, некоторые из которых раз за разом возникали снова — свои работы он часто, не жалея, уничтожал после выставок. Он оставлял подробные инструкции, которые, как пьеса в театре, открыты для дальнейших воссозданий и интерпретаций. Он верил в величие замысла как такового, позволяя себе свести это до формулы: «Художник — это тот, кто утверждает. Когда я говорю, что небо красное, оно красное».
«The Life of C.B.»
2010 - 2021
В рамках работы, Кристиан Болтански продал свою жизнь коллекционеру.
В 2010 году Кристиан Болтански отдал часть своей жизни в пожизненную ренту: в мастерской художника висела веб-камера, которая в прямом эфире транслировала деятельность Болтански на экран музея MONA вплоть до его смерти.
Один коллекционер в 2009 году предположил, что Болтански осталось жить не более восьми лет, и согласился платить ему на протяжении этого срока солидный пенсион, рассчитывая взамен на эксклюзивных основаниях получить видеозапись того, как художник умрет в прямом эфире - и проиграл.
Австралийский коллекционер произведений искусства и азартный игрок Дэвид Уолш заявил, что произведение искусства, которое он заказал в 2010 году у Кристиана Болтански, скончавшегося в июле 2021 года, останется «архивом великого творца».
Уолш, основатель и владелец Музея старого и нового искусства Тасмании (MONA), имел в виду работу «Жизнь Си Би». Три видеокамеры, установленные в парижской студии художника, снимали художника 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и транслировали запись в музей.
Верный своей азартной натуре, Уолш включил в работу пари. Он согласился заплатить за произведение нераскрытую сумму и передать ее Болтански ежемесячными платежами в течение восьми лет. По условиям, если Болтански умрёт до истечения восьми лет, Уолш получит работу дешевле оговоренной стоимости. Но если Болтански переживет этот срок, он выиграет, продолжая получать ежемесячные платежи от Уолша.
В итоге Болтански выиграл пари. Он прожил еще три года и скончался в июле 2021 года.
Проект «The Life of C.B.» прекратился в субботу, 17 июля. Прямая трансляция была завершена. На запертых полках остались тысячи Blue-ray дисков с многолетней записью студии.
-----
Из интервью с художником:
- И то, что вы продали свою жизнь в пожизненную ренту, — это тоже часть мифотворчества?
- Да, это миф одного человека с Тасмании, который купил мою жизнь (Дэвид Уолш, тасманийский миллиардер, заработал состояние на ставках. — TANR). Сейчас у него тысячи и тысячи DVD с записью моей жизни. В день по диску, и так уже десять лет. И в то же время это опять парабола, притча: можно ли купить чью-то жизнь и можно ли жить, постоянно наблюдая за чьей-то жизнью? Конечно, нет. С одной стороны, он купил мою жизнь. С другой, он ничего не получает. Ну почесал я нос — и что дальше? Никакой информации обо мне это не дает. Единственная ценность этих DVD состоит в том, что они фиксируют процесс моего старения. Камера установлена на лестнице, по которой мне все сложнее подниматься.
- Выгодно хотя бы продали?
- Очень. Даже торговались почти полгода. Один нотариус во Франции, второй в Австралии. Команда врачей, масса бумаг. Мне, например, было любопытно узнать, что будет, если он умрет первым, хотя он гораздо моложе меня, ему всего 50 лет.
- И что тогда?
- Действие контракта прерывается с первой смертью. Счетчик останавливается. Он думал, что я умру до того, как он мне выплатит всю сумму, изначально прописанную в контракте. Это были ежемесячные выплаты. Но вот теперь, уже несколько месяцев, он мне переплачивает: та сумма уже истекла.
- Кроме мифа в этой истории есть еще тема случайности, к которой вы постоянно возвращаетесь.
- Конечно. Это же чистой воды «Фауст», сделка с дьяволом. Человек заработал огромные деньги на ставках. Он говорит, что никогда не проигрывает, что поборол случайность — а это дьявольщина. Но тут получается, что он проигрывает, ведь по его расчетам я должен был уже умереть. Мы виделись в декабре прошлого года, примерно в тот момент, когда отпущенный мне срок истекал. За деньги я не волнуюсь — с ними у него все в порядке, — а вот принципы, похоже, пошатнулись.
-----
Из интервью с Дэвидом Уолшем:
16 июля, Уолш написал в своем блоге, что впервые встретил Болтански в ресторане в Париже. «Напились мы. И нам было весело», — написал он.
«Кристиан почти не говорил по-английски, а я говорю только по-английски, но Кристиан прекрасно мог общаться со мной при помощи жестов, случайных кивков и лукавого подмигивания.
«Кристиан говорил (и жестикулировал) о проектах, которые он реализовал, и о тех, которые планировал: хранилище биений сердца на протяжении поколений, хранилище всех телефонных книг в мире. И предложение для меня: камеры в его студии, показывающие его творческий процесс. Работа с большой концептуальной глубиной, но оформленная как ставка на то, что он умрет прежде, чем соберет достаточную плату за свою работу.
«Его студия транслировалась в Моне в прямом эфире более десяти лет. В субботу отключат. А работа остается — архив великого творца, который стабильно и без драмы делает и делает мир лучше.
-----
Человек, с детства говоривший о смерти, вроде бы должен быть готов к ней. Болтански охотно рассуждал в том духе, что раньше он говорил о чужой смерти, а теперь все больше о своей, и что он хотел бы умереть медленно, с чувством, с толком, с расстановкой, сделав все дела. Судьба вывернула все на свой лад: он умер 14 июля, в День взятия Бастилии, главный праздник Французской Республики, чьим бесспорным героем он являлся. Ушел раньше, чем всем хотелось бы, но зато успев победить своего тасманского Мефистофеля, Дэвида Уолша.
Кристиан Болтански оставил после себя множество работ, некоторые из которых раз за разом возникали снова — свои работы он часто, не жалея, уничтожал после выставок. Он оставлял подробные инструкции, которые, как пьеса в театре, открыты для дальнейших воссозданий и интерпретаций. Он верил в величие замысла как такового, позволяя себе свести это до формулы: «Художник — это тот, кто утверждает. Когда я говорю, что небо красное, оно красное».


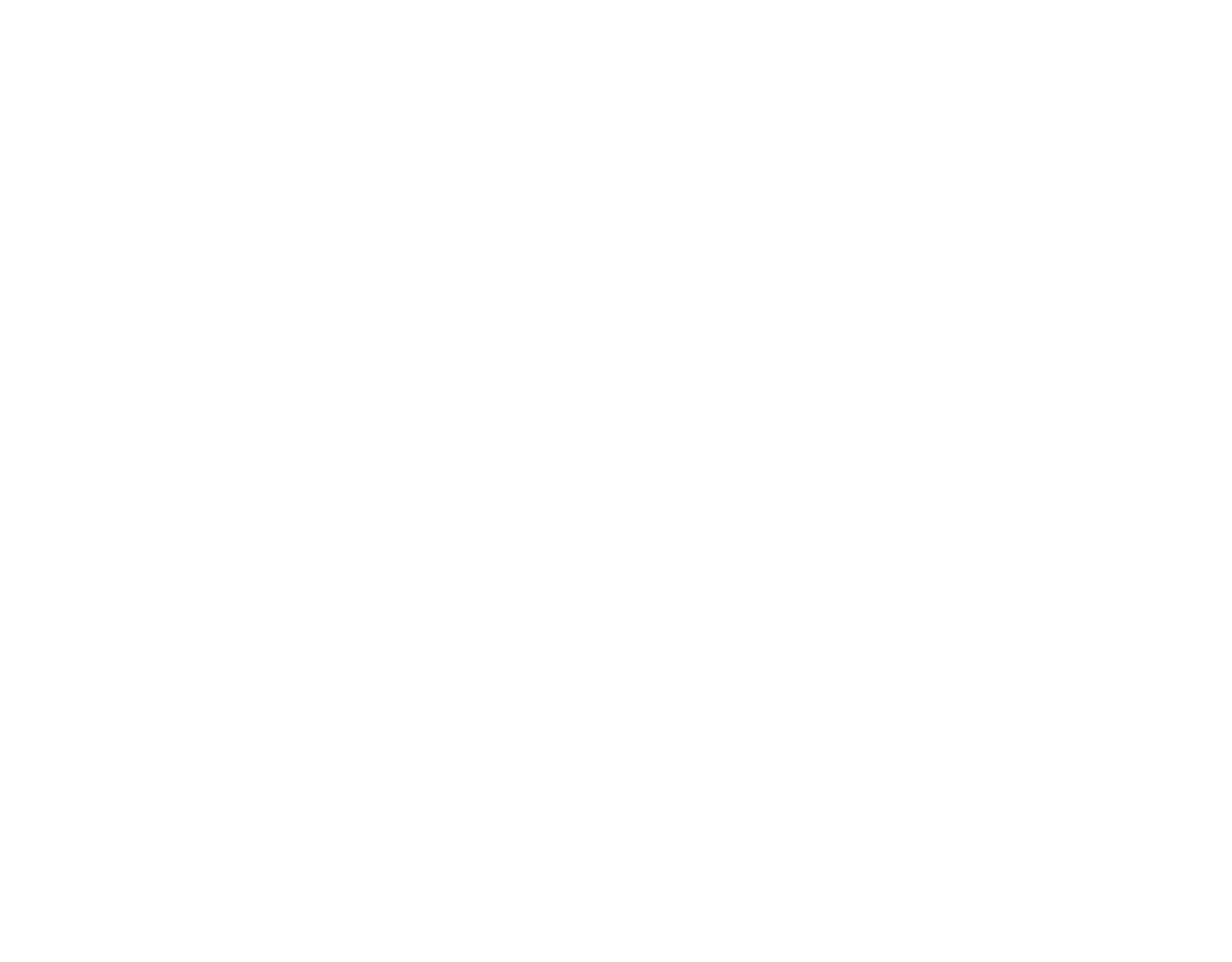

Maria Eichhorn
«5 weeks, 25 days, 175 hours», 2016
Получив возможность провести персональную выставку в лондонской галерее Чизенхейл, Мария Айххорн просто ее закрыла и почти на месяц отпустила всех сотрудников по домам. Работа так и называлась - «5 недель, 25 дней, 175 часов». Все это время двери галереи оставались закрытыми для посетителей.
Телефоны галереи не отвечали, электронная почта, за исключением одного дня в неделю, не проверялась. Все 14 сотрудников галереи Чизенхейл продолжали получать заработную плату и боролись с парадоксом того, что могут работать, не работая. А Айххорн получила гонорар в размере 2000 фунтов стерлингов за отказ выставлять свою работу.
Айххорн комментировала в журнале Artforum: «Ни галерея, ни выставка не закрыты — они просто перемещены в публичную сферу и общество». Содержанием искусства было в данном случае время, выделенное работникам. В первую очередь выставка заставила задуматься над тем, как мы воспринимаем время в эпоху, когда работа и досуг переплетаются между собой так тесно, как никогда прежде, вследствие чего нам редко выпадает шанс сделать паузу и задуматься.
Работа Айххорн имеет социальный подтекст и обращает внимание на условия труда в современном мире, однако одновременно с этим она представляет собой яркую манифестацию «ничто», находящегося за стенами закрытой галереи. При этом всё, относящееся к материальному миру, скрупулёзно документировано — точное время работы выставки вынесено в название, а на сайте галереи Чизенхейл размещены записи интервью с сотрудниками, в которых они рассказывают о своей должности и обязанностях .
«Здесь не на что смотреть, но есть над чем подумать», – написал один английский критик.
«5 weeks, 25 days, 175 hours», 2016
Получив возможность провести персональную выставку в лондонской галерее Чизенхейл, Мария Айххорн просто ее закрыла и почти на месяц отпустила всех сотрудников по домам. Работа так и называлась - «5 недель, 25 дней, 175 часов». Все это время двери галереи оставались закрытыми для посетителей.
Телефоны галереи не отвечали, электронная почта, за исключением одного дня в неделю, не проверялась. Все 14 сотрудников галереи Чизенхейл продолжали получать заработную плату и боролись с парадоксом того, что могут работать, не работая. А Айххорн получила гонорар в размере 2000 фунтов стерлингов за отказ выставлять свою работу.
Айххорн комментировала в журнале Artforum: «Ни галерея, ни выставка не закрыты — они просто перемещены в публичную сферу и общество». Содержанием искусства было в данном случае время, выделенное работникам. В первую очередь выставка заставила задуматься над тем, как мы воспринимаем время в эпоху, когда работа и досуг переплетаются между собой так тесно, как никогда прежде, вследствие чего нам редко выпадает шанс сделать паузу и задуматься.
Работа Айххорн имеет социальный подтекст и обращает внимание на условия труда в современном мире, однако одновременно с этим она представляет собой яркую манифестацию «ничто», находящегося за стенами закрытой галереи. При этом всё, относящееся к материальному миру, скрупулёзно документировано — точное время работы выставки вынесено в название, а на сайте галереи Чизенхейл размещены записи интервью с сотрудниками, в которых они рассказывают о своей должности и обязанностях .
«Здесь не на что смотреть, но есть над чем подумать», – написал один английский критик.


Беспрецедентные по продолжительности работы Тейчина Сье конца 70-х – середины 80-х были осмыслены как альтернативная форма радикальному перформансу, как опыт, открывший новые перспективы для развития искусства перформанса в ситуации кризиса агрессивных телесных практик.
С 11 апреля 1980 по 11 апреля 1981 года в перформансе «Время/Time Piece» Тейчин Сье был привязан к своей квартире на Хадсон-стрит, не имея возможности отлучиться куда-либо более, чем на 59 минут. Днем и ночью строго в начале каждого часа (7.00, 8.00 и т.п.) он должен был компостировать карточку учета, которых по итогам года накопилось 366 (по количеству дней), делать снимок и немедленно покидать комнату. Процедура перформанса вновь предполагала привлечение гаранта добросовестности художника. Таким человеком выступил Дэвид Милн (David Milne), исполнительный директор Фонда сообщества художников (Foundation for community of artists). Он подписал документ, согласно которому взял на себя ответственность подписывать каждую из 366 тайм-карт и не подписывать дополнительных, опечатать табельные часы и контролировать любые непредвиденные операции с ними - от ремонта до полной замены механизма. Помимо тайм-карт, документация перформанса осуществлялась посред посредством 16-миллиметровой кинокамеры. Каждый час, прокомпостировав карточку, художник снимал один кадр на кинопленку.
По прошествии года приглашенный свидетель (Дэвид Милн) должен был проверить целостность пленки и тем самым засвидетельствовать соблюдение условий перформанса. Чтобы наглядно проиллюстрировать «чистый» ход времени, Тейчин Сье побрился наголо и, по аналогии с первым перформансом, не стригся на протяжении года (год «Времени» на видео укладывается примерно в 6 минут, в течение которых у художника постепенно отрастают волосы). В ходе перформанса Сье должен был отметиться в комнате с часами 8760 раз. По результатам анализа карточек, подписанных Милном, мы можем увидеть, что художник пропустил назначенное время 152 раза (в 94 случаях проспал, 29 раз опоздал к началу часа и 10 раз нажал кнопку слишком рано). Публика могла наблюдать перформанс лишь один раз в месяц согласно установленному графику - с 11 утра до 5 вечера.
В этой работе Тейчин Сье, будучи временной субстанцией, как и все люди, фокусируется на времени как объективном явлении, неумолимо утверждающем конечность нашего существования. Рассуждая об этом перформансе, Стивен Шавиро подчеркивает, что художник освобождает понятие времени от контекста. Мы привыкли измерять время с позиции продолжительности какой-либо деятельности или привязывать его к определенным событиям. В зависимости от контекста мы часто отмечаем про себя, что время идет быстро или наоборот - тянется слишком медленно. В работе Сье время не имеет конкретного содержания, художник будто меняет местами субъект и объект – время перестает восприниматься как характеристика жизнедеятельности человека или человечества, оно представлено как преобразующая сила. В этом перформансе сам Тейчин Сье становится иллюстрацией воздействия времени на природу живых существ, выступает свидетельством времени как независимого, явления объективно существующего вне всякого смысла.
С 11 апреля 1980 по 11 апреля 1981 года в перформансе «Время/Time Piece» Тейчин Сье был привязан к своей квартире на Хадсон-стрит, не имея возможности отлучиться куда-либо более, чем на 59 минут. Днем и ночью строго в начале каждого часа (7.00, 8.00 и т.п.) он должен был компостировать карточку учета, которых по итогам года накопилось 366 (по количеству дней), делать снимок и немедленно покидать комнату. Процедура перформанса вновь предполагала привлечение гаранта добросовестности художника. Таким человеком выступил Дэвид Милн (David Milne), исполнительный директор Фонда сообщества художников (Foundation for community of artists). Он подписал документ, согласно которому взял на себя ответственность подписывать каждую из 366 тайм-карт и не подписывать дополнительных, опечатать табельные часы и контролировать любые непредвиденные операции с ними - от ремонта до полной замены механизма. Помимо тайм-карт, документация перформанса осуществлялась посред посредством 16-миллиметровой кинокамеры. Каждый час, прокомпостировав карточку, художник снимал один кадр на кинопленку.
По прошествии года приглашенный свидетель (Дэвид Милн) должен был проверить целостность пленки и тем самым засвидетельствовать соблюдение условий перформанса. Чтобы наглядно проиллюстрировать «чистый» ход времени, Тейчин Сье побрился наголо и, по аналогии с первым перформансом, не стригся на протяжении года (год «Времени» на видео укладывается примерно в 6 минут, в течение которых у художника постепенно отрастают волосы). В ходе перформанса Сье должен был отметиться в комнате с часами 8760 раз. По результатам анализа карточек, подписанных Милном, мы можем увидеть, что художник пропустил назначенное время 152 раза (в 94 случаях проспал, 29 раз опоздал к началу часа и 10 раз нажал кнопку слишком рано). Публика могла наблюдать перформанс лишь один раз в месяц согласно установленному графику - с 11 утра до 5 вечера.
В этой работе Тейчин Сье, будучи временной субстанцией, как и все люди, фокусируется на времени как объективном явлении, неумолимо утверждающем конечность нашего существования. Рассуждая об этом перформансе, Стивен Шавиро подчеркивает, что художник освобождает понятие времени от контекста. Мы привыкли измерять время с позиции продолжительности какой-либо деятельности или привязывать его к определенным событиям. В зависимости от контекста мы часто отмечаем про себя, что время идет быстро или наоборот - тянется слишком медленно. В работе Сье время не имеет конкретного содержания, художник будто меняет местами субъект и объект – время перестает восприниматься как характеристика жизнедеятельности человека или человечества, оно представлено как преобразующая сила. В этом перформансе сам Тейчин Сье становится иллюстрацией воздействия времени на природу живых существ, выступает свидетельством времени как независимого, явления объективно существующего вне всякого смысла.
В рамках перформанса «Под открытым небом», Тейчин Сье решает провести целый год на улицах Нью-Йорка. Подписав обещание не заходить в помещения, не садиться в машины и избегать любых навесов, защищающих от дождя и снега обычных бездомных, художник с 26 сентября 1981 года по 26 сентября 1982 года бродил вокруг Нижнего Манхэттена. Единственной возможностью связаться с ним были телефонные автоматы и случайные встречи. Маршрут своих передвижений Тейчин Сье каждый день наносил на карту, отмечая, в частности, места, где он спал и ел. Документацией перформанса стали 366 карт и фотографии. В своей статье Performing Life Стивен Шавиро называет эту работу Сье инверсией «Клетки» - художник предельно открыл себя внешним воздействиям, что ничуть не менее опасно для физического и психического состояния, чем опыт полной изоляции в замкнутом пространстве.


Четвертый годовой перформанс (1983 – 1984) Тейчин Сье называл «Искусство/жизнь», подчеркнув, что в рамках данной работы между творчеством и повседневной жизнедеятельностью не видит никаких границ. Художник посвятил этот год исследованию человеческих взаимоотношений и пригласил к сотрудничеству художницу Линду Монтано. Тейчин Сье перенес функцию искусства в пространство повседневной жизни и превратил быт двух людей в эксперимент. В течение года Сье и Монтано связывала веревка длиной 2 м 40 см и все действия становились общими с единственным условием - не прикасаться друг к другу. Целостность печатей на двух концах веревки заверили два свидетеля – Полин Оливерос со стороны Тейчина Сье, Пол Грэсфилд со стороны Линды Монтано. В качестве документальных свидетельств перформанса сохранились сотни аудиокассет и фотографии. Никаких специальных часов для доступа аудитории сценарий перформанса не предполагал – свидетелями действия становились друзья и знакомые художников, заинтересованные представители арт-сообщества и средств массовой информации, а также любой незнакомец, которого Сье и Монтано встречали на улицах города или в местах общественного пользования.



