
«Вспоминается и другая ситуация – рассказ Бредбери, в котором проводятся экскурсии в первобытное прошлое, где с невероятной тщательностью проложен некий маршрут, тропинка, за которую категорически запрещается выходить «туристам». Случайное соскальзывание (от страха – с ума) с тропинки влечет тяжелейшие последствия после возвращения – мир становится Другим.» (В.Захаров "Золотая книга», эссе "Большой архив. Домашний архив. Бухгалтерия.")


Группа "Гнездо", "Коммуникационная труба", 1974
Концептуализм – прежде всего антивизуальная идеология. Все антивизуальное в искусстве – концептуальный проект, но четко его определить очень трудно. Если концептуализму гарантирована долгая жизнь, то отчасти по причине отсутствия определенного стилевого параметра. Поэтому-то о нем продолжают писать. Хотя в опознавательном виде концептуализма уже давно нет. Хорошо это или плохо, но он неуловим. (Mаргарита Мастеркова-Тупицына, из беседы с Юрием Альбертом, "Бесполетное воздухоплавание" Виктор Агамов-Тупицын, 2018)
Московский концептуализм с одной стороны считается классикой, но как пишет А. Монастырский в статье "Батискаф концептуализма": "…корабль пуст. Но он есть. И это исследовательский корабль".
Московский концептуализм с одной стороны считается классикой, но как пишет А. Монастырский в статье "Батискаф концептуализма": "…корабль пуст. Но он есть. И это исследовательский корабль".

( В.Захаров, Фонтан (Aqua Sacra), 1992)
Почему количество текстов вокруг московского концептуализма продолжает расти? Тут важно обратиться к генезису московского концептуализма, Илья Кабаков в интервью Юрию Альберту (Юрий Альберт "Московский концептуализм. Начало."2014) ссылается на беседы внутри художественной среды, которые с одной стороны спровоцировали создание произведений, но и в какой-то степени являются продолжением этих произведений.

Благодаря ризомному, постоянно разрастающемуся характеру этих текстов положительное непонимание, которое является частью художественного метода, сохраняется. В самой сути концептуализма заложена стилистическая эфемерность.
Концептуализм определяет и переопределяет границы искусства и одной из главных тем является как текст, форма или объект могут стать произведениями, и как они в качестве произведений функционируют в системе искусства. ("МК.Начало." Альберт,2014) Поэтому концептуализм постоянно выпрыгивает из собственных стилевых рамок и стремится обнаружить зоны продуктивного непонимания и неразличения.
Концептуализм определяет и переопределяет границы искусства и одной из главных тем является как текст, форма или объект могут стать произведениями, и как они в качестве произведений функционируют в системе искусства. ("МК.Начало." Альберт,2014) Поэтому концептуализм постоянно выпрыгивает из собственных стилевых рамок и стремится обнаружить зоны продуктивного непонимания и неразличения.

"Функция этих работ прежде всего состоит в раздвижении границ текста, границ художественного пространства в ту сторону, где мир, понятый как картина, смыкается с миром, данным нам как реальность. Непосредственно к сфере искусства как такового они принадлежат только одной своей половиной, причем - как ни парадоксально – именно той своей частью, которую невозможно до конца проанализировать, осознать, которая положительна непонятна для зрителя. Если зритель находит в них зацепку для размышления, для переживания, если в них есть какая-то неопределенная новость, тогда они работают, если же этого нет и они целиком поглощены, академизированы предшествующим им художественным пространством, то ценность их невелика. Если при обращении с ними возникает вопрос "Что это такое? Я не совсем понимаю в чем тут дело" – или лучше всего: "наконец-то я не понимаю, что это такое" – тогда хорошо, тогда они срабатывают как надо."(Эстетические исследования. Монастырский)
Художественное сообщество в 60-70 гг существовало в отрыве от мирового контекста, информация поступала очень дозировано и художники, подобно палеонтологам додумывали как выглядит весь скелет по одному только зубу.(из интервью Виталия Комара и Юрия Альберта. "Начало. Московский концептуализм "c 78-79) Таким образом, продуктивное непонимание – это не только метод внутри концептуализма, но и внешний фактор, часть исторического контекста, спровоцировавший активные обсуждения внутри художественного сообщества и повлиявший на формирование мощной художественной среды и автономного эстетического суждения. Как пишет Иосиф Бакштейн в статье "О концептуальном искусстве в России" ("Внутри картины" И.Бакштейн, 2015) "…именно в семидесятые были разработаны фундаментальные эстетические "мыслеформы", позволившие русскому искусству вернуться на орбиту мирового художественного процесса. И добились этого именно концептуалисты. Отчасти поэтому концептуализм остается законодателем эстетических практик в России, самым влиятельным течением в русской визуальной культуре. Результаты, достигнутые концептуалистами, позволили сохранить уровень свободы, необходимый любой форме искусства (или достичь этого уровня). Все это позволило русскому концептуализму стать полноценным направлением с собственной историей и последовательностью развития идей."

(Комар и Меламид, Дуглас Дэвис, Где черта между нами, 1974)
Каким образом художники находили информацию об актуальных идеях в искусстве в ситуации закрытых границ и жесткой цензуры?
Несмотря на "железный занавес" и разрыв взаимосвязи с международным художественным процессом, фрагментарную информацию о ключевых идеях в искусстве и философии можно было добыть, такие послабления в цензуре возникли в период оттепели.
Виталий Комар: "О концептуальном искусстве я узнал из советских публикаций с критикой западных упадочных течений. Был особого рода поток литературы, где многие вполне грамотные и даже, в тайниках души, либеральные критики критиковали Запад. Они имели доступ к подлинным манифестам течений в западном искусстве и философии. Я думаю, в душе они прекрасно понимали, что таким образом у них появляется возможность обходить цензуру и знакомить художников и вообще интересующихся современных искусством людей с каким-то выжимками того, что сейчас модно на Западе. "
Несмотря на "железный занавес" и разрыв взаимосвязи с международным художественным процессом, фрагментарную информацию о ключевых идеях в искусстве и философии можно было добыть, такие послабления в цензуре возникли в период оттепели.
Виталий Комар: "О концептуальном искусстве я узнал из советских публикаций с критикой западных упадочных течений. Был особого рода поток литературы, где многие вполне грамотные и даже, в тайниках души, либеральные критики критиковали Запад. Они имели доступ к подлинным манифестам течений в западном искусстве и философии. Я думаю, в душе они прекрасно понимали, что таким образом у них появляется возможность обходить цензуру и знакомить художников и вообще интересующихся современных искусством людей с каким-то выжимками того, что сейчас модно на Западе. "

Группа "Гнездо". "Железный занавес", 1975
Юрий Альберт: "И совсем курьезом был журнал "Крокодил", где попадались забавные сообщения о том, до чего доходит буржуазное искусство. Им это казалось настолько смешно само по себе, что не надо даже перевирать: там можно было прочесть о первых выставках концептуалистов и т.д."

Юрий Альберт, Изображение карикатуры Кукрыниксов из журнала Крокодил № 22 за 1966 год, 1994, холст, акрил, (из серии "Карикатуры моего детства")
Андрей Монатырский: "Это удивительно, но в Библиотеке иностранной литературы уже с конца 1950-х – начала 1960-х годов лежали в свободном доступе все мировые журналы по искусству, такие как Studio International, Flash Art, Artforum, Leonardo и т. д. Об этом почти никто не знал, кроме кучки любопытных, куда входили и мы. Я пришел к этому немного позже, а вот Иван Чуйков, Никита Алексеев сразу же пристрастились.
В культурных кругах «ходило» абсолютно все, что нужно было знать. Чего невозможно было прочитать в библиотеке — было в самиздате, даже в русских переводах. Например, полные собрания сочинений того же Хайдеггера или Юнга. Главное, чтобы была интересная наводка. А у меня она была странная: через Большую советскую энциклопедию. Тогда я еще не был знаком с художниками, я открывал БСЭ и как только видел, что кого-то ругают (вот Ницше, Хайдеггер, Гуссерль — буржуазные философы, или какие-то музыканты, гады мерзкие), то тут же бежал изучать информацию о них или их тексты, где только можно. " (http://artguide.com/posts/293-andriei-monastyrskii-proizviedieniie-iskusstva-nie-obiazatiel-no-stroitsia-po-printsipu-dorozhnogho-znaka-323 )
В культурных кругах «ходило» абсолютно все, что нужно было знать. Чего невозможно было прочитать в библиотеке — было в самиздате, даже в русских переводах. Например, полные собрания сочинений того же Хайдеггера или Юнга. Главное, чтобы была интересная наводка. А у меня она была странная: через Большую советскую энциклопедию. Тогда я еще не был знаком с художниками, я открывал БСЭ и как только видел, что кого-то ругают (вот Ницше, Хайдеггер, Гуссерль — буржуазные философы, или какие-то музыканты, гады мерзкие), то тут же бежал изучать информацию о них или их тексты, где только можно. " (http://artguide.com/posts/293-andriei-monastyrskii-proizviedieniie-iskusstva-nie-obiazatiel-no-stroitsia-po-printsipu-dorozhnogho-znaka-323 )

(Группа "Гнездо"(Геннадий Донской) Направление мысли. 1979 г. Надпись: НАПРАВЛЕНИЕ МЫСЛИ. Противоположный конец магнитной ленты направлен на Запад. Текст, записанный на ленте: "Работа, ориентированная одновременно на Запад и на Восток". 14 декабря 1979 года. Донской, Рошаль, Скерсис)
Но информации поступало мало, и в ситуации вакуума художники не могли считать контекст, в котором сформировался международный концептуализм. Никита Алексеев в интерью Юрию Альберту говорит: "Но я потом понял, что восприятие у нас было сильно искаженное, потому что, я думаю, про Витгенштейна мало кто в Москве тогда слышал. А сам понимаешь, что то, что я на самом деле считаю концептуализмом, очень сильно замешано на Витгенштейне. А у нас крутились совершенно другие имена." ("МК.Начало" Альберт)
Также важно было значение концептуализма в последовательности и сменяемости течений в истории искусств. На Западе был пройден большой путь редукции визуального языка и отказа от принципов модернизма. Концептуализм стал последним течением модернизма и началом постмодернизма.
Также важно было значение концептуализма в последовательности и сменяемости течений в истории искусств. На Западе был пройден большой путь редукции визуального языка и отказа от принципов модернизма. Концептуализм стал последним течением модернизма и началом постмодернизма.

(Велосипедное колесо. Ю. Альберт, 1992)
Сравнение московской школы с западным концептуализмом вызывает ряд вопросов. "Ортодоксальные концептуалисты" типа Кошута или Аккончи – прежде всего не могут делать картины или скульптуры. Это важная вещь – смерть картины и скульптуры как таковых. Объекты – пожалуйста, но не скульптура. Они могут делать инсталляции или работать со словом, или фотографировать, но не могут писать картины. Дуглас Кримп, по-моему, в 1981 году провозгласил, что картина умерла и что нельзя просто рисовать, что эта форма уже не существует. (интервью Юрия Альберта с Миленой Славитской. "МК. Начало" 2014)


Автопортрет с завязанными глазами, Юрий Альберт, 1996
Еще один диалектический парадокс на тему классического и современного искусства. Русский концептуализм в отличие от нормативного англосаксонского вырос из школы академического рисования с натуры. Вырос непосредственно, безо всякой модернистской очистительной процедуры между ними. Проект «Автопортрет с завязанными глазами» пытается вернуться к «корням» искусства классического (в терминологии Альберта – «настоящего»), но безуспешно. Это проект не о «внутреннем зрении» или чем-то подобном, он также и не о слепоте, которую философская традиция склонна интерпретировать как мудрость. Это проект не о физиологической, а о культурной неспособности, а точнее, неумении видеть.
Еще один диалектический парадокс на тему классического и современного искусства. Русский концептуализм в отличие от нормативного англосаксонского вырос из школы академического рисования с натуры. Вырос непосредственно, безо всякой модернистской очистительной процедуры между ними. Проект «Автопортрет с завязанными глазами» пытается вернуться к «корням» искусства классического (в терминологии Альберта – «настоящего»), но безуспешно. Это проект не о «внутреннем зрении» или чем-то подобном, он также и не о слепоте, которую философская традиция склонна интерпретировать как мудрость. Это проект не о физиологической, а о культурной неспособности, а точнее, неумении видеть.
О разрыве между российским и западным контекстом, на фоне которого формировался концептуализм пишет Виктор Агамов-Тупицын: "В России концептуализм – это верхняя часть дома, в котором нет предшествующих этажей: строение, пребывающее в перманентно подвешенном состоянии. В Америке концептуализм отталкивался от дада, сюрреализма, акционистской живописи и (в меньшей степени) от минимализма. Фактически, они и были предшествующими этажами: на них можно было опереться и по контрасту с ними выстроить собственную идентичность."

"Акт демонизации был инсценирован Кабаковым и Джозефом Кошутом в их совместной
выставке под названием "Коридор двух банальностей" (Ujazdovsky Castle, Польша, 1994).
Инсталляция, обыгрывавшая параллели и различия между коммунальными и
экстракоммунальными нарративами, представляла собой длинный ряд придвинутых друг к
другу (вплотную) столов: с одной стороны - обшарпанные и покосившиеся столы России, с
другой - ровные и опрятные столы Запада. На тех и других столах находились тексты: на
первых - фрагменты коммунальных разговоров, на вторых - изречения знаменитых
личностей, "властителей дум". Фактурные контрасты между частями инсталляции придавали
визуальный ракурс противостоянию двух лингвистических парадигм: коллективной речи и
языка власти.»
Термин "концептуализм" в версии Джозефа Кошута быстро стал популярным в это время не просто потому, что идеи Кошута представлялись глубокими и оригинальными, но и потому, что концептуализм отражал некоторые сущностные аспекты художественного процесса в России в целом. Позже Илья Кабаков отметил, что "слово "концептуализм"" спустилось к нам, и мы уже прекрасно знали и использовали: оказалось, что уже долгое время мы разговариваем прозой". Кабаков говорит о том, что важные компоненты концептуализма – комментарий, интерпретация и автоинтерпретация – уже давно сопутствовали русскому искусству. (…) Еще раз о соотношении визуального и вербального в русском искусстве: художники в России традиционно одержимы содержанием своего визуального высказывания, содержанием, которое можно пересказать словами. Он/она никогда до конца не верит в самодостаточность визуального высказывания, за которым всегда стоит сложная история того события, которое стало поводом для картины.
Поэтому и обосновано мнение о том, что искусство в России всегда было концептуально. Просто художники в России, как персонаж Мольера, не знали, «что говорят стихами». Дело в том, что содержание, нарратив, контекст часто, а скорее, как правило не могли быть открыто высказаны по цензурным соображениям и поэтому были важнее пластических свойств изображения.
Так, знаменитая картина великого русского художника Исаака Левитана «Владимирка» (1892г.) стала знаменита не только и не столько тем, как написан пейзаж, а своим названием, тем, что по дороге, изображенной на картине, дороге, название которой стало названием картины, полиция царской России отправляла из Москвы в ссылку партии политических заключенных, что, естественно, было известно всем участникам художественных событий и зрителям тех лет.
Поэтому и обосновано мнение о том, что искусство в России всегда было концептуально. Просто художники в России, как персонаж Мольера, не знали, «что говорят стихами». Дело в том, что содержание, нарратив, контекст часто, а скорее, как правило не могли быть открыто высказаны по цензурным соображениям и поэтому были важнее пластических свойств изображения.
Так, знаменитая картина великого русского художника Исаака Левитана «Владимирка» (1892г.) стала знаменита не только и не столько тем, как написан пейзаж, а своим названием, тем, что по дороге, изображенной на картине, дороге, название которой стало названием картины, полиция царской России отправляла из Москвы в ссылку партии политических заключенных, что, естественно, было известно всем участникам художественных событий и зрителям тех лет.

Всеволод Некрасов. –Рано. 1970
Историческим достижением МК было то, что его адепты осознали эту имманентную концептуальность русского искусства, его обремененность «содержанием», неустранимый дисбаланс формы и содержания и стали создавать произведения, в которых рефлектировалась именно эта русская специфичность. В отличие от концептуализма кошутовского образца, где деконструировался предмет изображения (классический пример самого Кошута: стул, фотография стула и описание стула в словарной статье), МК в свой классический период деконструировал разрывы внутри семантики советского (и шире — русского) эстетического мейнстрима. (Бакштейн. Внутри изображения. 2015)
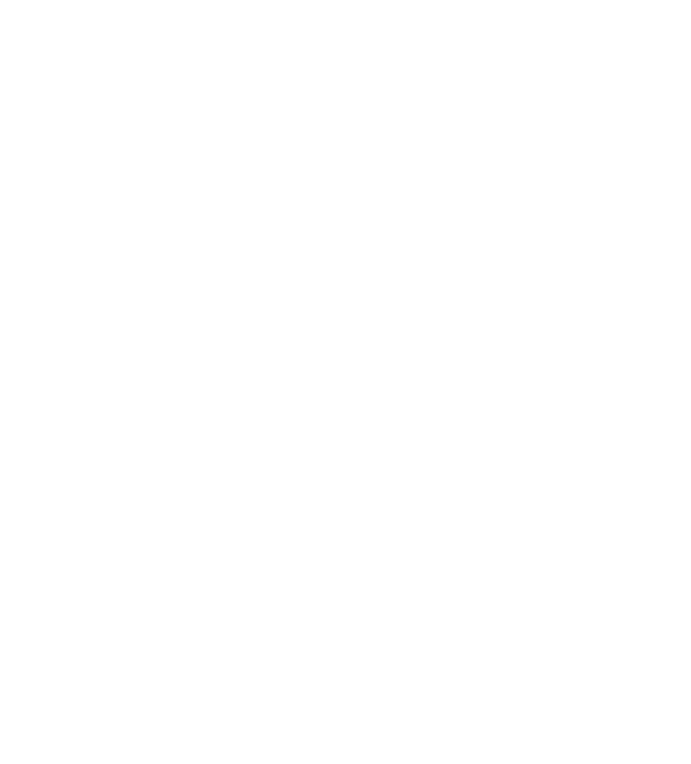
Илья Кабаков. Доска-объяснение к 3-м объяснениям из 6-ти картин. 1984
Маргарита Тупицына также выделяет вербальную составляющую русского искусства: "Я считаю, что искусство, рожденное из "пены" дискурса, из разговорной стихии – как во второй половине XX века, так и во времена авангарда, - есть главное достояние российской культуры. Это принципиально отличает наше искусство от западного. В разговорном жанре были задействованы персонажи, умевшие говорить красиво и интересно."

Виталий Комар и Александр Меламид. Каталог суперобъектов для суперлюдей, 1967-1977
(КЬЮРГОЛ-16. Уникальная установка для отращивания ногтей на ногах. В контейнере из полированного черного дерева серебрянный терморегулятор и передняя панель обеспечивает микроклимат, необходимый для органического синтеза рогового вещества. Необъяснимые ощущения роста ногтей поможет по-новому взглянуть на течение исторического времени!)
Илья Кабаков
"Разумеется, внутренне о такой спокойной позиции не могло быть и речи. Я вспоминаю себя в то время постоянно дрожащим от страха и ненавидящим каждый атом советской действительности, проклинающим всю эту идеологию и образ жизни, к которому она привела. Но в то же время мы часто беседовали об этом феномене в тоне его холодного препарирования. В беседах с моими друзьями Андреем Монастырским и Иосифом Бакштейном мы часто сравнивали эту позицию с ситуацией Ливингстона, совершающего путешествие в Африку, претерпевающего массу лишений и страданий и описывающего в спокойных тонах обряды и обычаи встретившихся ему народов для членов Лондонского географического общества, читающих эти описания, сидя в мягких креслах среди приятной обстановки и попивая хороший кофе. Иначе говоря, предполагалось существование такого клуба, где сидят друзья – умные люди, которые оценят и описания, и их юмор. Мы чувствовали себя посланниками другой страны, в которой мы, впрочем, никогда не были и, как нам тогда казалось, никогда не окажемся.
В этом описании нормальный человеческий язык должен был быть применен для описания чудовищного, нечеловеческого мира. И в то же время это было не только внешним описанием, но самоописанием. Такие описания тоже имеют прецедент: это самоописания врачей, больных какой-нибудь ужасной болезнью. Тот же Ливингстон пишет, что его описания были бы невозможны или очень неполны, если бы не услуги перебежчиков, доносчиков, посредников, информантов. А именно, достаточно было его экспедиции остановиться где-то в глубине Африки, как во мраке и таясь появлялся кто-нибудь из местных жителей и подробно, не ожидая награды, рассказывал о жизни и нравах своего племени. Видимо, эта потребность описать себя для другого глубоко живет в сердце любого человека. "
(Илья Кабаков, Борис Гройс. Диалоги. 2010)
"Разумеется, внутренне о такой спокойной позиции не могло быть и речи. Я вспоминаю себя в то время постоянно дрожащим от страха и ненавидящим каждый атом советской действительности, проклинающим всю эту идеологию и образ жизни, к которому она привела. Но в то же время мы часто беседовали об этом феномене в тоне его холодного препарирования. В беседах с моими друзьями Андреем Монастырским и Иосифом Бакштейном мы часто сравнивали эту позицию с ситуацией Ливингстона, совершающего путешествие в Африку, претерпевающего массу лишений и страданий и описывающего в спокойных тонах обряды и обычаи встретившихся ему народов для членов Лондонского географического общества, читающих эти описания, сидя в мягких креслах среди приятной обстановки и попивая хороший кофе. Иначе говоря, предполагалось существование такого клуба, где сидят друзья – умные люди, которые оценят и описания, и их юмор. Мы чувствовали себя посланниками другой страны, в которой мы, впрочем, никогда не были и, как нам тогда казалось, никогда не окажемся.
В этом описании нормальный человеческий язык должен был быть применен для описания чудовищного, нечеловеческого мира. И в то же время это было не только внешним описанием, но самоописанием. Такие описания тоже имеют прецедент: это самоописания врачей, больных какой-нибудь ужасной болезнью. Тот же Ливингстон пишет, что его описания были бы невозможны или очень неполны, если бы не услуги перебежчиков, доносчиков, посредников, информантов. А именно, достаточно было его экспедиции остановиться где-то в глубине Африки, как во мраке и таясь появлялся кто-нибудь из местных жителей и подробно, не ожидая награды, рассказывал о жизни и нравах своего племени. Видимо, эта потребность описать себя для другого глубоко живет в сердце любого человека. "
(Илья Кабаков, Борис Гройс. Диалоги. 2010)

(Виктор Скерсис. "Машина "Понимание" 1978 год)
Поясняя характер бесед в мастерской, Кабаков подчеркивает важность дистанционного взгляда на художественные и политические явления, то есть вырабатывалась позиция наблюдателя на тоталитарную действительность. "Особенность этих бесед состояла в том, что были полностью вычеркнуты причины, по которым люди поддерживают так называемые беседы – например, "что случилось", "что произошло": "А ты знаешь, Вася, что у Пети ушла жена?" – "Да? Вот интересно. Какая она сволочь!". Мы смотрели на эту жизнь из какой-то другой точки. И каждый принимал эту точку зрения, понимал, что и другой учитывает вот эту постороннюю точку зрения на то, что происходит." Замкнутость пространтсва стала признаком тюремной жизни, то есть даже будучи на свободе, в ситуации жесткого контроля художники чувствовали себя обреченными на пожизненное заключение. То есть эти беседы стали пространством выпадения из гула "коммунальной речи", и в них была интенция сохранения человеческого в себе. Как говорит Илья Кабаков в интервью Михаилу Эпштейну: "И это был дыхательный такой момент: мы дышали вопреки общему удушью" ("Каталог" Кабаков, Эпштейн, 2010)

Илья Кабаков. Картина 349, Чарльз Розенталь: Они обсуждают новый план (1930), из проекта Ильи и Эмилии Кабаковых "Альтернативная история искусства", 2008
Следует отметить важность для проблематики МК такой осевой темы искусства в России, как тема "выживания интеллектуала", выживания человека в обстоятельствах, когда невозможно выжить, не потеряв человеческий, в том числе и по преимуществу моральный облик. Тема, которая вновь приобрела актуальность в девяностые годы, да, впрочем, актуальна и сегодня (Бакштейн. «Внутри картины».)



Андрей Монастырский, Инсталляция 11, 2011
(Здесь же у меня в инсталляции с нарами – взгляд ИЗНУТРИ, а внутри там, в СССР, была давящая казенная серость и тюрьма – и никакой другой интриги на этом уровне рассмотрения. Внутри было УЖАСНО – как и в моей инсталляции, которая УЖАСНА в принципе (и в художественном смысле тоже, но не в эстетическом, поскольку под эстетикой я понимаю только пространство и время как созерцания).
СССР изнутри – это именно что-то сделанное БЕЗ ЛЮБВИ, казенное, отвратительно-серое (внешняя «веселость» обеспечивалась лагерями для миллионов, пытками и расстрелами).
И конечно, там не должно было быть лозунга над нарами, это романтизирует, смягчает чисто умозрительную конструкцию инсталляции, но это уже Гройс так захотел и я не стал с ним спорить.
В «Красном павильоне» Кабакова зритель смотрел с балкона на юго-запад, где и располагался сам красный павильон, «СССР». У меня зритель смотрит как бы изнутри «СССР», изнутри «Красного павильона» тоже на юго-запад (с того же балкона) – но видит продолжение этой внутренности советской в виде таких же свай в заливе, в воде (ведь в центре помещения с нарами – сваи на круге с цифрой 11); или это как раз наоборот: внедрение внешнего мира внутрь советского, то есть высказывание в том смысле, что внешний мир (западный) создал этот адский мир внутри России. С другой стороны этот умозрительный элемент свай в центре нар, увиденный вместе со сваями в заливе, которые хорошо видны при открытой двери на балкон – это «ТАК ЖЕ, КАК ВЕЗДЕ» - пластическая цитата из ненужного там Лозунга-78 (поскольку это ложное высказывание: в СССР было гораздо хуже, чем на западе тогда). Во всяком случае сваи в центре и вариативность их демонстрирования – открыта дверь на балкон или закрыта, видны ли сваи в заливе из этой двери или нет – дает мерцание смыслов, порождает объем и интригу смыслов. И это мерцание смыслов через пучок свай там - ЦЕНТРАЛЬНОЕ, поскольку сваи занимают центральное положение, а нары – по краям.) (описание - http://conceptualism.letov.ru/Monastyrsky-11-comment.html )
СССР изнутри – это именно что-то сделанное БЕЗ ЛЮБВИ, казенное, отвратительно-серое (внешняя «веселость» обеспечивалась лагерями для миллионов, пытками и расстрелами).
И конечно, там не должно было быть лозунга над нарами, это романтизирует, смягчает чисто умозрительную конструкцию инсталляции, но это уже Гройс так захотел и я не стал с ним спорить.
В «Красном павильоне» Кабакова зритель смотрел с балкона на юго-запад, где и располагался сам красный павильон, «СССР». У меня зритель смотрит как бы изнутри «СССР», изнутри «Красного павильона» тоже на юго-запад (с того же балкона) – но видит продолжение этой внутренности советской в виде таких же свай в заливе, в воде (ведь в центре помещения с нарами – сваи на круге с цифрой 11); или это как раз наоборот: внедрение внешнего мира внутрь советского, то есть высказывание в том смысле, что внешний мир (западный) создал этот адский мир внутри России. С другой стороны этот умозрительный элемент свай в центре нар, увиденный вместе со сваями в заливе, которые хорошо видны при открытой двери на балкон – это «ТАК ЖЕ, КАК ВЕЗДЕ» - пластическая цитата из ненужного там Лозунга-78 (поскольку это ложное высказывание: в СССР было гораздо хуже, чем на западе тогда). Во всяком случае сваи в центре и вариативность их демонстрирования – открыта дверь на балкон или закрыта, видны ли сваи в заливе из этой двери или нет – дает мерцание смыслов, порождает объем и интригу смыслов. И это мерцание смыслов через пучок свай там - ЦЕНТРАЛЬНОЕ, поскольку сваи занимают центральное положение, а нары – по краям.) (описание - http://conceptualism.letov.ru/Monastyrsky-11-comment.html )
В международном контексте концептуализм был протестом против правил художественного рынка, в СССР отсутствовал рынок, но его роль выполняла идеологическая машина, вопреки которой возникло альтернативное движение художников. Поэтому изучая генезис московского концептуализма, необходимо охарактеризовать исторический период и специфику политических событий, повлиявших на формирование коммунального гетто (термин В. Тупицына. "Коммунальный (пост)модернизм", 1998) с единым регаментированным художеcтвенным стилем.


Эрик Булатов. Заход или восход солнца. 1989
Что такое официальное искусство и почему существовал только один разрешенный стиль в советском искусстве ?
В СССР партия в 1932 г установила единый стиль - Социалистический реализм, и любые художественные объединения вне Союза художников, стали незаконными. Образовалась единая вертикальная инстанция, отвечавшая за производство и одновременно за потребление художественных работ. Искусством считалось только "официальное искусство" одобренное властью, хотя по сути являлось не искусством, а иллюстративным материалом, для поддержания мифа "рая на земле"(Бакштейн. «Внутри картины») внутри адской реальности тоталитарной идеологии. Как справедливо заметил Андрей Монастырский "соцреалистическая живопись – замазывание следов преступлений советской власти". ( В.Агамов-Тупицын."Круг общения")
В СССР партия в 1932 г установила единый стиль - Социалистический реализм, и любые художественные объединения вне Союза художников, стали незаконными. Образовалась единая вертикальная инстанция, отвечавшая за производство и одновременно за потребление художественных работ. Искусством считалось только "официальное искусство" одобренное властью, хотя по сути являлось не искусством, а иллюстративным материалом, для поддержания мифа "рая на земле"(Бакштейн. «Внутри картины») внутри адской реальности тоталитарной идеологии. Как справедливо заметил Андрей Монастырский "соцреалистическая живопись – замазывание следов преступлений советской власти". ( В.Агамов-Тупицын."Круг общения")


Виктор Скерсис. Агитационная машина 1980 г
Cоциалистический реализм программно провозглашал взятие лучшего из всех культур как в области формы, так и в области содержания. Синтетичность эта носила умозрительный характер (на практике ее не наблюдалось), но при этом императивный и карательный: это требование позволяло критиковать любую работу за односторонность и неполноту (легко заметить здесь наследие конструктивистской теории и развертывания). Власть и ее рупор, критика, обвиняли художников в двух взаимоисключающих грехах: формализме и натурализме. Приемлемо могло быть только искусство, достигающее, как и генеральная линия партии, идеального баланса между двумя "уклонами". И творческие союзы, и соцреализм были созданы не как феномены с некой специфической программой, но как тотальные и безальтернативные: с начала 1930-х и вплоть до конца 1980-х годов публичное непризнание художника соцреалистом, как и исключение его из творческого союза, означало его, как минимум, символическую смерть. Оба проекта, Союз художников и социалистический реализм (как и проект СССР), строились на презумпции консенсуса и структурно представляли собой принудительный синтез: границы понятий "соцреализм" и "советское искусство" совпадали.

Виталий Комар и Александр Меламид. Каталог суперобъектов для суперлюдей 1976-1977.
БУФТ. Движение, которому чужды пределы! Вырезанный из цельного куска баобаба, БУФТ-78 объединяет ваше сознание, ваши передние конечности и шею в единое Целое!
БУФТ. Движение, которому чужды пределы! Вырезанный из цельного куска баобаба, БУФТ-78 объединяет ваше сознание, ваши передние конечности и шею в единое Целое!
Чтобы быть вне этих границ, требовались специальные организационные усилия: нужно было игнорировать систему Союза художников и не выставляться на государственных выставках, найдя иные легальные источники средств к существованию и полностью отказав себе в публичности (этого хотели и смогли добиться единицы, среди которых были Тышлер и Фальк).
(Е.Деготь. Русское искусство XX века, 2002)
(Е.Деготь. Русское искусство XX века, 2002)

Советская физкультура. Александр Самохвалов 1935г

Незабываемая встреча. Василий Ефанов, 1937

Новогодняя открытка, 1937 год
Художники стали обслуживать интересы власти и принцип коммунальности, как единого организма, распространился на художественный стиль официального иcкусства.
"Художественное" новшество, привнесенное советской властью в мир "мыслепоступков" и констатирующее ее триумф, - это утилизация судеб и народов в качестве аффирмативной телесности. Но если телесность, о которой здесь идет речь, - обобщенное понятие, абстрагированное от конкретного человеческого тела, то как насчет репрезентации его страстей и безумий, страданий и удовольствий, стадного чувства и чувства отчуждения? Если удовольствие без отчуждения – синоним рая, достигнутого ценой исчезновения плоти, то произведения соцреализма свидетельствуют не об утрате тела, а о его репрессии. Репрессия в отношении тела, его физических потребностей и отправлений, связана не с подменой реального тела его репрезентацией, поскольку без этого не было бы искусства, а с тем, что в соцреализме эти "издержки производства" доведены до уровня "идеальной предметности".
"Художественное" новшество, привнесенное советской властью в мир "мыслепоступков" и констатирующее ее триумф, - это утилизация судеб и народов в качестве аффирмативной телесности. Но если телесность, о которой здесь идет речь, - обобщенное понятие, абстрагированное от конкретного человеческого тела, то как насчет репрезентации его страстей и безумий, страданий и удовольствий, стадного чувства и чувства отчуждения? Если удовольствие без отчуждения – синоним рая, достигнутого ценой исчезновения плоти, то произведения соцреализма свидетельствуют не об утрате тела, а о его репрессии. Репрессия в отношении тела, его физических потребностей и отправлений, связана не с подменой реального тела его репрезентацией, поскольку без этого не было бы искусства, а с тем, что в соцреализме эти "издержки производства" доведены до уровня "идеальной предметности".

Андрей Монастырский. Slippers. 1984
Объект представляет собой наложенные друг на друга подошвами и сбитые в носках двумя гвоздями женские туфли со срезанными ремешками и с каблуками на металлических набойках. Туфли покрашены в черный цвет. Гвозди плотно скрепляют только носки туфель, каблуки не соединены друг с другом, между ними расстояние в 1,5 см. Посередине туфли обмотаны черным электропроводом длиной в 1 м. На туфлях четыре текстовых наклейки. Две - снаружи, одна на верхней туфле - "А. М. Студия", другая - на нижней: "Фонограмма 4.12.84", и две - на подошвах, прижатых друг к другу. Они наклеены таким образом, что их можно увидеть и прочитать, только разогнув подошвы. На одной подошве наклеена односложная надпись (предлог) "ПОД", на другой - двусложная надпись (местоимение) "НИМИ". Эти расчлененные на две части текста слова дают два смысла: императив "Подними" и словосочетание со значением места - "Под ними".
Во время записи фонограммы "Студия" объект "Туфли" использовался и как партитура, и как ударный инструмент (звук стучащих друг о друга металлических набоек на каблуках). При прослушивании фонограммы объект "Туфли" также должен находиться перед слушателем-зрителем (и в качестве партитуры, и для возможных манипуляций с туфлями).
Фонограмма "Студия" представляет собой многослойное наложение текстовых кусков на некоторые места предварительно записанной на пленку музыки в стиле рок-н-оппозишн (диск 84 года, американская группа). Текст в основном посвящен технологическим и композиционным проблемам акта стирания этого музыкального первичного слоя записи. Наложения делались с условием сохранения энергетического и эстетического баланса между речевыми и музыкальными кусками.
В некоторых местах используются звуки стучащих друг о друга каблуков "Туфель", краткие комментарии к музыке и к самому акту "стирания", а также звуковые обстоятельства действия с объектом "Туфли" (разматывание провода и звук падения туфель на пол).
декабрь 1984 г.
Во время записи фонограммы "Студия" объект "Туфли" использовался и как партитура, и как ударный инструмент (звук стучащих друг о друга металлических набоек на каблуках). При прослушивании фонограммы объект "Туфли" также должен находиться перед слушателем-зрителем (и в качестве партитуры, и для возможных манипуляций с туфлями).
Фонограмма "Студия" представляет собой многослойное наложение текстовых кусков на некоторые места предварительно записанной на пленку музыки в стиле рок-н-оппозишн (диск 84 года, американская группа). Текст в основном посвящен технологическим и композиционным проблемам акта стирания этого музыкального первичного слоя записи. Наложения делались с условием сохранения энергетического и эстетического баланса между речевыми и музыкальными кусками.
В некоторых местах используются звуки стучащих друг о друга каблуков "Туфель", краткие комментарии к музыке и к самому акту "стирания", а также звуковые обстоятельства действия с объектом "Туфли" (разматывание провода и звук падения туфель на пол).
декабрь 1984 г.

В соцреалистическом каноне эмпирическое тело не просто информировано конструктом – оно им сотворено по своему образу и подобию. Принцип онтогеничности из творческого в высоком смысле слова превращается в бюрократический. Тело, проваренное в чистках соцреалистической репрезентации, свободно лищь постольку, поскольку оно испытывает удовольствие от подчинения стереотипу. Cходное удовольствие испытывают завсегдатаи самомазохистских клубов с той лишь разницей, что в их случае экстатический bliss не опосредован "прибавочной символизацией", характерной для советской изопродукции. Цель соцреализма как культурного текста – воспрепятствовать отчуждению собственного смысла, то есть предотвратить (или упразднить) его темпорально-пространственное la difference (отстояние/запаздывание). Условием подобного предотвращения является конфессионально-катарсическое слипание "следа" (trace) и отсроченного, ускользающего от присутствия "референта", который в результате подобной магической операции перестает быть отсроченным. Вера в успех этой магической операции – логоцентрическая греза, которую "вульгарная номенклатура" насаждала на одной шестой части территории земного шара. "Вульгарной" ее назвал философ Густав Шпет, ученик Гуссерля, расстрелянный в конце 1930-х годов. (В.Агамов-Тупицын, "Бесполетное воздухоплавание", 2018)


(Вадим Захаров, История русского искусства – от авангарда до московской концептуальной школы, Инсталляция, 2003)
Политический климат сталинской эпохи повлиял на художников, которые родились в тридцатые и застали перманентный страх и ужас, сконцентрированный вокруг волны репрессий тех лет. Это был период немоты и отсутствия художественного процесса, который не вписывался в рамки официальной культуры. И преодоление этой цензуры, которое в 30-е подразумевало жизненную опасность, случилось гораздо позже. Экзистенциальная тематика освобождения и влияние cталинской академической традиции, в которой "Большая картина" была вершиной изобразительного искусства (Юрий Альберт. "Начало. Московский концептуализм",2014 (с.10-11)) прослеживается впоследствии в работах Кабакова и Булатова.

Эрик Булатов. Вход – Входа нет. 1974
Юрий Альберт: Я однажды кому-то объяснял, что у вас картина равна самой себе, как кошутовский стул в трех разных видах равен самому себе. Она таже тавтологична в этом смысле.
Эрик Булатов: Мне это очень понятно. Просто для меня картина – это как бы путь через картину, сквозь картину. Возможность движения. У каждого из нас, кто в искусстве работает, на самом деле очень узенькая дорожка, очень узенькая и очень трудная. Она как тропка какая-то, чуть оступишься – и тут же попадаешь в яму, в грязь, из которой выбраться трудно. Эту дорожку можно нащупывать, как она там дальше. Она как бы заложена в твоей судьбе. Моя дорога – только через картины, потому что, если только я пытаюсь просто посмотреть на жизнь, я ничего не могу ни объяснить, ни понять. Эту возможность понимания, осмысления мне дает картина. Но все люди устроены по-разному, я понимаю, что у каждого художника есть какая-то своя опора. Это личное дело каждого художника, главное, что он должен не изменить в этом своему пути, вот и все. (Юрий Альберт. "Начало. Московский
концептуализм",2014)
Эрик Булатов: Мне это очень понятно. Просто для меня картина – это как бы путь через картину, сквозь картину. Возможность движения. У каждого из нас, кто в искусстве работает, на самом деле очень узенькая дорожка, очень узенькая и очень трудная. Она как тропка какая-то, чуть оступишься – и тут же попадаешь в яму, в грязь, из которой выбраться трудно. Эту дорожку можно нащупывать, как она там дальше. Она как бы заложена в твоей судьбе. Моя дорога – только через картины, потому что, если только я пытаюсь просто посмотреть на жизнь, я ничего не могу ни объяснить, ни понять. Эту возможность понимания, осмысления мне дает картина. Но все люди устроены по-разному, я понимаю, что у каждого художника есть какая-то своя опора. Это личное дело каждого художника, главное, что он должен не изменить в этом своему пути, вот и все. (Юрий Альберт. "Начало. Московский
концептуализм",2014)

Илья и Эмилия Кабаковы. Упавшее небо (The fallen sky), 2006

Илья Кабаков
После института был сделан шаг, был открыт метод, как мне рисовать. И после этого я обнаружил очень любопытную вещь. Сначала я считал, что я – в качестве единицы некой реальности – бултыхаюсь, не умея плавать, в море Неизвестного. Но потом я открыл, что рисовать – это означает слушать, что выплескивает из твоей фантазии, прислушиваться к своей глубине, доверять только тому, что выплыло из меня без меня самого (а все, что я сам напридумываю, казалось мне отвратительным и необязательным). Но когда из меня пошла наружу некая кинолента, потекли какие-то образы, с этого момента я обнаружил очень интересную вещь: Неизвестное находится не только вне меня, но и внутри меня. То есть я представляю собой резервуар такой же бездонной неясности, непонятности, странных колебаний образов, которые хорошо сопрягаются с мутью и неясностью, которая находится вне меня. Таким образом установилась любопытная и до сих пор действующая система, что я сам представляю собой в сущности мембрану, которая должна довольно тонко и хорошо слышать и передавать то, что идет настойчиво из моей внутренней бездны, исполнять ее поручения.
То, что я сейчас говорю, может быть, разумеется, интерпретировано как невменяемое мычание, что-то психическое… Здесь нет очень важного компонента – представления о том, что человечество за это время сочинило достаточно крепкий плот, что уже многие, плававшие «между этими двумя безднами», до нас создали много "плавающих непотопляемых средств" – музыкальных, литературных поэтических, театральных и визуальных. Есть какой-то большой опыт у людей, и за всю историю он становится все крепче и крепче, cтоять на том плоту, который они сами установили между двумя этими безднами. (Илья Кабаков, Михаил Эпштейн. Каталог, 2010)
После института был сделан шаг, был открыт метод, как мне рисовать. И после этого я обнаружил очень любопытную вещь. Сначала я считал, что я – в качестве единицы некой реальности – бултыхаюсь, не умея плавать, в море Неизвестного. Но потом я открыл, что рисовать – это означает слушать, что выплескивает из твоей фантазии, прислушиваться к своей глубине, доверять только тому, что выплыло из меня без меня самого (а все, что я сам напридумываю, казалось мне отвратительным и необязательным). Но когда из меня пошла наружу некая кинолента, потекли какие-то образы, с этого момента я обнаружил очень интересную вещь: Неизвестное находится не только вне меня, но и внутри меня. То есть я представляю собой резервуар такой же бездонной неясности, непонятности, странных колебаний образов, которые хорошо сопрягаются с мутью и неясностью, которая находится вне меня. Таким образом установилась любопытная и до сих пор действующая система, что я сам представляю собой в сущности мембрану, которая должна довольно тонко и хорошо слышать и передавать то, что идет настойчиво из моей внутренней бездны, исполнять ее поручения.
То, что я сейчас говорю, может быть, разумеется, интерпретировано как невменяемое мычание, что-то психическое… Здесь нет очень важного компонента – представления о том, что человечество за это время сочинило достаточно крепкий плот, что уже многие, плававшие «между этими двумя безднами», до нас создали много "плавающих непотопляемых средств" – музыкальных, литературных поэтических, театральных и визуальных. Есть какой-то большой опыт у людей, и за всю историю он становится все крепче и крепче, cтоять на том плоту, который они сами установили между двумя этими безднами. (Илья Кабаков, Михаил Эпштейн. Каталог, 2010)

Леонид Соков. Очки для каждого советского человека. 1976
В статье "Можно ли присвоить тотальное?" ("Круг общения",2013) Виктор Агамов-Тупицын выявляет спекулятивный аспект поэтизации тоталитарного режима. В этой статье В. Агамов-Тупицын последовательно разбирает упрощение смыслов в популярном, но раскритикованным в профессиональных кругах, тексте "Коммунистический постскриптум" Бориса Гройса, нам же важен акцент в статье на упразднение критической функции и отсутствие рефлексии в искусстве соцреализма : "Cегодня, когда художественное наследие Третьего рейха почти полностью деэстетизировано, я не уверен, что процесс деполитизации тоталитарного искусства в России – столь же позитивное явление. Не уверен, потому что нежелание вслушиваться в "гул политического" компенсируется вокализацией эстетики. Лауреаты сталинских премий извлекаются из могил, чтобы пополнить ряды служителей чистого искусства или чистой истины, как в "Афинской школе" Рафаэля<…> Говоря об истории, мы мысленно помещаем ее в банку с формалином – забывая, что любой термидор, включая сталинский, это прежде всего борьба с гетерогенностью. Ее ликвидацией занимались в ГУЛАГе. И в коммунальном гетто. Со временем выяснилось, что гетерогенность, утраченная в пункте "А", возобновляется в пункте "Б"(или там же, где прежде, но в новом обличье). С запозданием или без. Близорукость апологетов тотального гомогенного проекта – в игнорировании ризоматических (корневых) форм множественности (multiplicity), для которых отклонение от "нормы" и есть норма." (В. Агамов-Тупицын, "Круг общения") И стремление к гетерогенности, то есть разнородности и возможности отклонения от нормы возникла в советском искусстве только после смерти Сталина.

Группа "Гнездо" (Михаил Рошаль). Качайте красный насос! 1975 Инсталляция
Многие художники постсталинского времени (особенно те, кто прошел лагерь и ссылку) уже не идентифицировались с государством и желали расторгнуть для себя негласный договор, к которому сводилось советское искусство, - о коллективном творчестве, о делегировании смысловой стороны искусства институтами власти и об обязательной фигуративности. (Деготь, "Русское искусство XXвека")

Группа "Чемпионы мира" Дикие песни нашей родины. 1987 Cобрание музея МАНИ
Весной 1956 года - сразу после XX съезда КПСС - из заключения вернулись художники Ю.Соостер, Б.Свешников и Л.Кропивницкий. В результате принятия постановления ЦК КПСС "О преодолении культа личности и его последствий" (30 июня того же года) эксклюзивное право на статус индивидуальности, узурпированное партийной верхушкой, утратило прежнюю несомненность, и у творческой интеллигенции впервые появилась возможность декоммунализироваться, т.е. перестать быть всего лишь "античным хором" (хором сатиров) в "оптимистической трагедии" советского образца. К этому же времени относится и возникновение "Лианозовской группы" (художник и поэт Е.Кропивницкий, художники О.Потапова, В.Кропивницкая, О.Рабин, Л.Кропивницкий, Л.Мастеркова, В.Немухин, Н.Вечтомов, атакже поэты В.Некрасов, И.Холин и Г.Сапгир).

Георгий Костаки и Лидия Мастеркова на дне рождении поэта Генриха Худякова, 1971

Илья Кабаков. График «Надежды» и «Страха», 1983
Попробую вспомнить самостоятельную работу ,для себя", а не ,для них", потому что вся учеба, и в школе художественной, и в художественном институте, вся как бы была ,для них", а не для себя, чтобы ״они" были довольны, не выгнали (из школы, института), чтобы все было похоже на то, что ״они" требуют; и вот эта разведенность, несводимость для ״них" и ,для себя", окончательная и полная, уже была заложена в школе и институте. Постепенно, как у дрессированного зайца, выработалась ясность того, что ״им" от меня нужно, и, таким образом, само рисование, которое по видимости делал ״я", было целиком ״их" делом, делом педагогов и других образцов, включая Рафаэля и Рембрандта. Все это делалось и изготавливалось мною ,для них", но как бы совсем помимо меня. Чтобы было сочетание и ,для себя" и ,для них" одновременно, такого я не помню ни разу, и от этого не помню никогда удовлетворения от работы и результата, а скорее облегчение - вот и на этот раз ״провел", опять сошло благополучно...
Но внутреннее желание узнать, что я такое, зачем я, что это за занятие, куда я втолкнут без моего ״присутствия", все время болезненно мучило меня, и, конечно, оно должно было проявиться прежде всего как нехудожественное дело, ״неискусство".
Сейчас, уже постепенно и уже давно я стал чувствовать себя ״художником", но тогда, в те годы я для себя был только слепым, беспомощным, загнанным человеком, потому что профессия художника была ,для них", для их одобрения я делал ״художественное".
Но зато то, что я стал пробовать и испытывать, потом стало моим собственным личным опытом, освоением безо всяких высоких и любых авторитетов и правил, за что я только сам нес ответственность, не опираясь и не включаясь ни в одно «их» правило, во внешнем мире уже существующее.
(Кабаков,"60-е и 70-е… Записки о неофициальной жизни в Москве" )
Но внутреннее желание узнать, что я такое, зачем я, что это за занятие, куда я втолкнут без моего ״присутствия", все время болезненно мучило меня, и, конечно, оно должно было проявиться прежде всего как нехудожественное дело, ״неискусство".
Сейчас, уже постепенно и уже давно я стал чувствовать себя ״художником", но тогда, в те годы я для себя был только слепым, беспомощным, загнанным человеком, потому что профессия художника была ,для них", для их одобрения я делал ״художественное".
Но зато то, что я стал пробовать и испытывать, потом стало моим собственным личным опытом, освоением безо всяких высоких и любых авторитетов и правил, за что я только сам нес ответственность, не опираясь и не включаясь ни в одно «их» правило, во внешнем мире уже существующее.
(Кабаков,"60-е и 70-е… Записки о неофициальной жизни в Москве" )
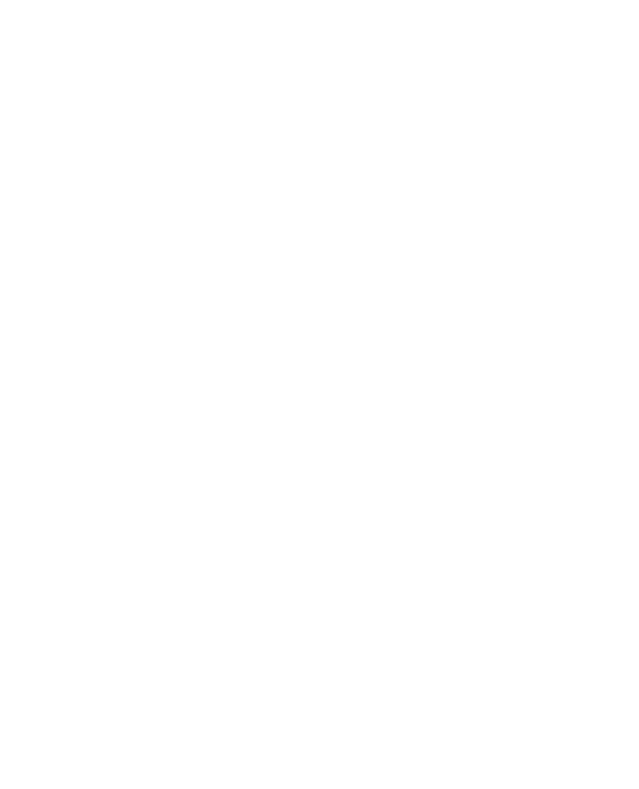
Виталий Комар и Александр Меламид. Каталог суперобъектов для суперлюдей. 1976-1977
Границы направлений у нас часто проходят не между художниками, а между работами, а иногда даже по половине работы (Юрий Альберт. Каталог "Поле действия", 2010)

Виталий Комар и Александр Меламид. Каталог суперобъектов для суперлюдей. 1976-1977

Илья Кабаков. Инсталляция «НОМА, или московский концептуальный круг». 1993
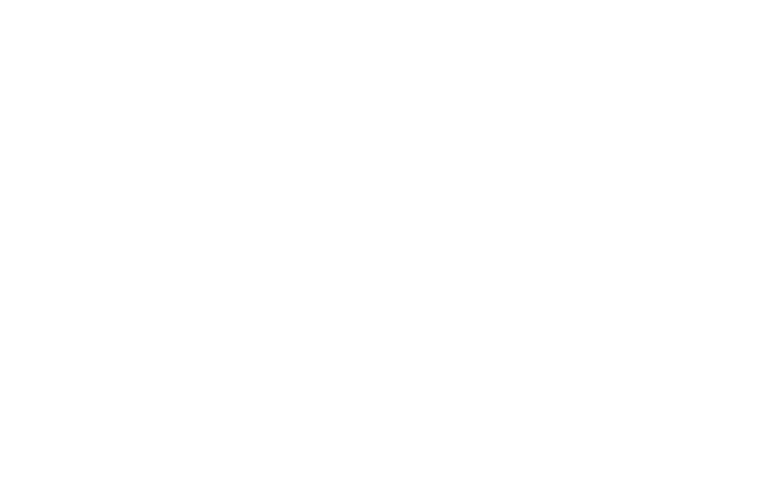
(Нелинейность, параллелизм, одновременность, отсутствие причинно-следственной связи, сосредоточие на внутреннем, интровертность, позволяющая отдельному занимать относительно свободное положение в системе, недуальность, связь между собой по типу «одно во всем и все в одном», то есть одновременность уровней единого и единичного, абсолютного и эмпирического — идеальная модель, стремившаяся в «Номе» манифестировать многомерный тип мышления, соответствующий интертекстуальному образу жизни.)
Виталий Пацюков http://moscowartmagazine.com/issue/53/article/1101
Виталий Пацюков http://moscowartmagazine.com/issue/53/article/1101
Инсталляцию «Нома» невозможно описать «снаружи»: эффект присутствия, погруженность в ее бинарное состояние — тьма по периферийным окружностям и сияние в центре сферы, «синхрофазотрона». Так называет это пространство Илья Кабаков, — как после сотворения мира, где был отделен свет от тьмы, сосредоточенность на непрерывном диалоге с визуальными объектами, «голосами» отсутствующих персонажей, включая и звучащий голос Дмитрия Александровича Пригова, пространство, пронизанное логосом, текстами, разрушающими метричность репрезентируемого мира — все это свидетельствует своим «гравитационным» опытом, что перед нами не просто трехмерная эстетизированная реальность, а мифопоэтическая модель новой общности, новой интегральности, обращенная к фундаментальным структурам единства и общения.
Как ни парадоксально, эстетика «Номы» не является эстетикой в точном смысле слова: ее «последние» ценности по своей природе не эстетичны, а скорее утопичны, где в мифопоэтической традиции сливаются в единой органике Я, ТЫ, ДРУГОЙ, объединяемые телесностью, выпуклым рельефом вещественности, материализованным хронотопом, местоимением МЫ, наполненным ожиданием. Временами дистанцированное, рефлексированное сознание вопрошающего, отвечающего, возражающего и провоцирующего художника трансформируется в родовое существо, настойчиво стремящееся испытать ощущения своей коллективной вечности. Уже сама способность Ильи Кабакова перемещать ценностный центр из причинно-следственной, детерминированной данности в «тотальную инсталляцию», то есть в мифопоэтическую суггестивность, где дискурс неотделим от катарсиса, свидетельствует об особых механизмах его искусства, механизмов «переплавки» индивидуального дискретного сознания в реликтовое многоголосье, в расслоенную интегральность, где автор-зритель «слипаются» в трансляционных переходах и расходятся в диалогических состояниях. Игровое самоотождествление позволяет всем участникам этой нескончаемой «беседы» внутри «Номы» избежать метафизического ужаса своей конечности, проживая катарсический цикл и катастрофы, мигрируя с «точки зрения» индивида в «точку зрения» новой целостности. В этих мутациях и сменах точек зрения изменяется и «субъект восприятия», он сам становится этой новой целостностью, членом родовой общности «Номы», обретая ощущения «бессмертия на время», лежащего в основе того, что традиционно называется «эстетическим наслаждением». Его индивидуальность сохраняется при скрытом переходе из пространства профанных реалий в пространство инсталляций, где он умирает в «здешнем» мире, чтобы воскреснуть в топосе Ильи Кабакова. Поэтому двуплановость экзистенции «Номы», ее экстерриториальность, сосредоточенная между монотонной регулярностью московских квартир и кабинетностью гамбургского Кунстхалле, носит характер онтологической трансцендентности. Ее инверсия неоспорима: в этом мире мы терпим принципиальную смысловую неудачу, значит спасение приходит на совершенно ином, трансгредиент- ном всей нашей жизни ценностном пути, даже если он и напоминает фантазм, компенсирующий отвергаемую действительность. В модели И.Кабакова субъектом «воскресения» становится не только он сам, останавливающий историю, как ее останавливали Дюшан в Да-Да или Бойс в его «Флуксусе» — воскресает и Другой, Ты — зритель, который «умирает» в героях, персонажах Ильи Кабакова, 12 апостолах художника и проходит путь от Я до МЫ в игровом хронотопе мифопоэтического пространства «Номы», достигая универсальной индивидуализации в своей итоговой «вненаходимости» в центре синхрофазотрона, в его космосе покоя и безразличия генерирующего абсолютный свет и рассеивающего тьму топоса инсталляции.
Как ни парадоксально, эстетика «Номы» не является эстетикой в точном смысле слова: ее «последние» ценности по своей природе не эстетичны, а скорее утопичны, где в мифопоэтической традиции сливаются в единой органике Я, ТЫ, ДРУГОЙ, объединяемые телесностью, выпуклым рельефом вещественности, материализованным хронотопом, местоимением МЫ, наполненным ожиданием. Временами дистанцированное, рефлексированное сознание вопрошающего, отвечающего, возражающего и провоцирующего художника трансформируется в родовое существо, настойчиво стремящееся испытать ощущения своей коллективной вечности. Уже сама способность Ильи Кабакова перемещать ценностный центр из причинно-следственной, детерминированной данности в «тотальную инсталляцию», то есть в мифопоэтическую суггестивность, где дискурс неотделим от катарсиса, свидетельствует об особых механизмах его искусства, механизмов «переплавки» индивидуального дискретного сознания в реликтовое многоголосье, в расслоенную интегральность, где автор-зритель «слипаются» в трансляционных переходах и расходятся в диалогических состояниях. Игровое самоотождествление позволяет всем участникам этой нескончаемой «беседы» внутри «Номы» избежать метафизического ужаса своей конечности, проживая катарсический цикл и катастрофы, мигрируя с «точки зрения» индивида в «точку зрения» новой целостности. В этих мутациях и сменах точек зрения изменяется и «субъект восприятия», он сам становится этой новой целостностью, членом родовой общности «Номы», обретая ощущения «бессмертия на время», лежащего в основе того, что традиционно называется «эстетическим наслаждением». Его индивидуальность сохраняется при скрытом переходе из пространства профанных реалий в пространство инсталляций, где он умирает в «здешнем» мире, чтобы воскреснуть в топосе Ильи Кабакова. Поэтому двуплановость экзистенции «Номы», ее экстерриториальность, сосредоточенная между монотонной регулярностью московских квартир и кабинетностью гамбургского Кунстхалле, носит характер онтологической трансцендентности. Ее инверсия неоспорима: в этом мире мы терпим принципиальную смысловую неудачу, значит спасение приходит на совершенно ином, трансгредиент- ном всей нашей жизни ценностном пути, даже если он и напоминает фантазм, компенсирующий отвергаемую действительность. В модели И.Кабакова субъектом «воскресения» становится не только он сам, останавливающий историю, как ее останавливали Дюшан в Да-Да или Бойс в его «Флуксусе» — воскресает и Другой, Ты — зритель, который «умирает» в героях, персонажах Ильи Кабакова, 12 апостолах художника и проходит путь от Я до МЫ в игровом хронотопе мифопоэтического пространства «Номы», достигая универсальной индивидуализации в своей итоговой «вненаходимости» в центре синхрофазотрона, в его космосе покоя и безразличия генерирующего абсолютный свет и рассеивающего тьму топоса инсталляции.
Парадокс новой мифологии — «тотальной инсталляции» Ильи Кабакова, — ее зарождение в иных циклах, в структурах отчужденного сознания, где небо и земля, огонь и вода, животное и растение как древние мифологемы вытеснены реалиями социума. Они семантически скрыты и, может быть, подменены в образе «Номы» как в образе генератора, сверхсознания, сохраняя традицию и лингвистическое присутствие в корневых формах «синхро» и «фазо» — синхронность и фазовость всего живого одновременно. В этой новой парадигме мифа в неодолимую и таинственную судьбу перерастает простая повседневность с ее рутинным социальным опытом, документальным протоколизмом, механической повторяемостью и заданностью одних и тех же ситуаций человеческого бытия, где коммунальная квартира способна трансформироваться в провинциальный гостиничный номер, комнату учреждения, кабинет ученого или следователя, соблюдая и храня все элементы своего ритуального смысла — глубину единства, в котором все взаимосвязано, и глубину одиночества, в котором каждый становится собой. В трагизме этой реальности, где параллельно нам, перефразируя М.Эпштейна, продолжают жить призраки, когда-то заявленные как Коган, Шеффнер и Лунина, слышится постоянная речь, речь, обреченная не воплощаться в сегодняшнем гомогенном мире России и, подобно хору античной трагедии, структурирующая «вдали от родины» профанное пространство Кунстхалле, давая ему новое измерение, загадку в духовном контексте Европы.
Речь-диалог Ильи Кабакова глубоко демократична, ибо предполагает не аутоцентричность, а сознательную установку на бицентричность — и шире на полицентричность, наполняясь ностальгией, вспоминая «Московскую цивилизацию», окутанную «сумерками», приобретающую потустороннее зрение. Эта речь-диалог пронизана чувством боли и гибели ушедшей «цивилизации коммунальных бесед», оплотнена самоанализом и собственно только после своей смерти оказалась способной рассматриваться как культура. Концептуализм Ильи Кабакова, осознаваемый сегодня как аккумулирующий в себе внутреннее раздвоение, метаязык, позволил этой цивилизации увидеть себя со стороны, став ее органическим «пороком» — саморефлексией, создав в ней оппозицию и психологию аутсайдерства. Его поэтика нескончаемой саморефлексии, логосных потенций, изоморфная гностическим смыслам процесса трансформации банальности в «философский камень», пронизана желанием возвращения в первовещество, в органическую материю. Она буквально моделирует «тихий свет», приглушенный реостат, лампочку в полнакала, изношенность фотонов, погружение солнца в материю, вещественность, скатывание в «гравитацию», дабы стать светом, чтобы вернуться не только возрожденным, но и наделенным также способностью возрождать, преобразовывать материю мыслью, дискурсом, выявляя в ней сокрытую идеальность, ее внутреннюю световую природу. Саморефлексия Ильи Кабакова обрела в «Номе» живую плоть, тело, основание живой душевной практики как непосредственное раскрытие агрегатности мира и скорее ориентированное на самопреобразование, чем на преобразование реальности, формируя сферу подсознания и переводя ее в ранг сверхсознания.
Отождествляя человеческую «самость» с наиболее глубоким, потаенным слоем психики, вынося ее за пределы «здешнего», пространственно-временного континуума, художник тем самым как бы указывает на постоянную присутствующую возможность генерирования и одновременно аннигиляции прошлого как небывшего, как способность всегда готового начать «новую жизнь» умирающего и воскрешающегося героя. Гнозис позиции Ильи Кабакова, раздваиваясь, преодолевая пределы и соединяя разрывы, постоянно тяготеет к уравниванию человека и абсолюта, оставляя сияющий и зияющий зазор потенций этого уравнивания. Его модель «Номы», пользуясь выражением Р.Барта, — это интеллект, приплюсованный к предмету, и такой добавок имеет антропологическую значимость в том смысле, что он оказывается самим человеком, его историей, его ситуацией, его свободой и даже тем сопротивлением, которое природа оказывает его разуму. Установка на диалог и признание его основой развития всех отношений граничат с принципиальным согласием, с возможностью существования разных, но вполне легитимируемых равноценных позиций. Именно в этом выступает значение диалога как особой формы взаимоотношений, направленной на развитие, в отличие от конфликта, направленного на вытесненениеСвоим Другого. Диалог Ильи Кабакова приобретает значение такой формы отношений, в которой происходит самостановление смысла, способного выступать лишь во взаимоотношениях с окружающим, размыкая и проявляя его резонансы.
Отношения, сокрытые в «Номе», есть результат работы сознания с сознанием.
Дискурс Кабакова постулирует и проясняет не только отношения между сознаниями — как бы внешний диалог, но и провоцирует отношения внутри одного создания, когда «другой» помещается внутри самого себя и может означать любые формы опыта. Частные «опыты» «Номы» обладают собственной ячейкой, комнатой, метрической матрицей, членящей и штампующей пространство «синхрофазотрона», генерирующей при этом векторы-смыслы, мыслеформы, утверждающие собственную дискретность и способность развернуться волновым пакетом, возбуждая полюса этого накопителя информации и возбуждаясь его энергией. Матричность «Номы» не консервируется, сохраняя «первородный отпечаток» мира, она постоянно подстраивается, осознавая себя строительством «герметической» и «герменевтической» школ, где ведется «игра в бисер». Ее структура подобна первичности нашего мира, но не удваивает, не копирует ее, а делает интеллегибельной, открывая не мимезис аналогией субстанций, а мимезисом их функций. Диалогичность «Номы» позволяет каждому ее участнику осознать свой внутренний мир, раскрыть возможность и основу идентификации с самим собой и в то же время пережить сопричастность некоему единству, внутри которого осуществляется диалог с другими внутренними мирами, персонажами «Номы». Выход на других, транслируемый как онтологическое открытие и психологическое признание себя, подразумевает понимание, про которое писал М.М.Бахтин, «что он не первый говорящий, впервые нарушивший вечное молчание вселенной, и он предполагает не только наличие системы того языка, которым он пользуется, но и наличие каких-то предшествующих высказываний — своих и чужих, — к которым его данное высказывание вступает в те или иные взаимоотношения».
Речь-диалог Ильи Кабакова глубоко демократична, ибо предполагает не аутоцентричность, а сознательную установку на бицентричность — и шире на полицентричность, наполняясь ностальгией, вспоминая «Московскую цивилизацию», окутанную «сумерками», приобретающую потустороннее зрение. Эта речь-диалог пронизана чувством боли и гибели ушедшей «цивилизации коммунальных бесед», оплотнена самоанализом и собственно только после своей смерти оказалась способной рассматриваться как культура. Концептуализм Ильи Кабакова, осознаваемый сегодня как аккумулирующий в себе внутреннее раздвоение, метаязык, позволил этой цивилизации увидеть себя со стороны, став ее органическим «пороком» — саморефлексией, создав в ней оппозицию и психологию аутсайдерства. Его поэтика нескончаемой саморефлексии, логосных потенций, изоморфная гностическим смыслам процесса трансформации банальности в «философский камень», пронизана желанием возвращения в первовещество, в органическую материю. Она буквально моделирует «тихий свет», приглушенный реостат, лампочку в полнакала, изношенность фотонов, погружение солнца в материю, вещественность, скатывание в «гравитацию», дабы стать светом, чтобы вернуться не только возрожденным, но и наделенным также способностью возрождать, преобразовывать материю мыслью, дискурсом, выявляя в ней сокрытую идеальность, ее внутреннюю световую природу. Саморефлексия Ильи Кабакова обрела в «Номе» живую плоть, тело, основание живой душевной практики как непосредственное раскрытие агрегатности мира и скорее ориентированное на самопреобразование, чем на преобразование реальности, формируя сферу подсознания и переводя ее в ранг сверхсознания.
Отождествляя человеческую «самость» с наиболее глубоким, потаенным слоем психики, вынося ее за пределы «здешнего», пространственно-временного континуума, художник тем самым как бы указывает на постоянную присутствующую возможность генерирования и одновременно аннигиляции прошлого как небывшего, как способность всегда готового начать «новую жизнь» умирающего и воскрешающегося героя. Гнозис позиции Ильи Кабакова, раздваиваясь, преодолевая пределы и соединяя разрывы, постоянно тяготеет к уравниванию человека и абсолюта, оставляя сияющий и зияющий зазор потенций этого уравнивания. Его модель «Номы», пользуясь выражением Р.Барта, — это интеллект, приплюсованный к предмету, и такой добавок имеет антропологическую значимость в том смысле, что он оказывается самим человеком, его историей, его ситуацией, его свободой и даже тем сопротивлением, которое природа оказывает его разуму. Установка на диалог и признание его основой развития всех отношений граничат с принципиальным согласием, с возможностью существования разных, но вполне легитимируемых равноценных позиций. Именно в этом выступает значение диалога как особой формы взаимоотношений, направленной на развитие, в отличие от конфликта, направленного на вытесненениеСвоим Другого. Диалог Ильи Кабакова приобретает значение такой формы отношений, в которой происходит самостановление смысла, способного выступать лишь во взаимоотношениях с окружающим, размыкая и проявляя его резонансы.
Отношения, сокрытые в «Номе», есть результат работы сознания с сознанием.
Дискурс Кабакова постулирует и проясняет не только отношения между сознаниями — как бы внешний диалог, но и провоцирует отношения внутри одного создания, когда «другой» помещается внутри самого себя и может означать любые формы опыта. Частные «опыты» «Номы» обладают собственной ячейкой, комнатой, метрической матрицей, членящей и штампующей пространство «синхрофазотрона», генерирующей при этом векторы-смыслы, мыслеформы, утверждающие собственную дискретность и способность развернуться волновым пакетом, возбуждая полюса этого накопителя информации и возбуждаясь его энергией. Матричность «Номы» не консервируется, сохраняя «первородный отпечаток» мира, она постоянно подстраивается, осознавая себя строительством «герметической» и «герменевтической» школ, где ведется «игра в бисер». Ее структура подобна первичности нашего мира, но не удваивает, не копирует ее, а делает интеллегибельной, открывая не мимезис аналогией субстанций, а мимезисом их функций. Диалогичность «Номы» позволяет каждому ее участнику осознать свой внутренний мир, раскрыть возможность и основу идентификации с самим собой и в то же время пережить сопричастность некоему единству, внутри которого осуществляется диалог с другими внутренними мирами, персонажами «Номы». Выход на других, транслируемый как онтологическое открытие и психологическое признание себя, подразумевает понимание, про которое писал М.М.Бахтин, «что он не первый говорящий, впервые нарушивший вечное молчание вселенной, и он предполагает не только наличие системы того языка, которым он пользуется, но и наличие каких-то предшествующих высказываний — своих и чужих, — к которым его данное высказывание вступает в те или иные взаимоотношения».
Двусубъектность, полагание Другого и ориентировка на него выступают в дискурсе «Номы» как необходимость учета обратной связи, составляющей условие самого бытия искусства, самой его возможностью быть воспринятым возможно адекватно. Сам вектор высказывания Я ДРУГОЙ в этой системе включается в обратимый информационный процесс, где равную актуальность приобретает симметричность силовых полей диалога, оценка себя с точки зрения других, самого автора высказывания через контекст, через организацию переживания и рефлексию других, имплицитно содержащих взгляд извне. Замыкая обратно формирующую связь в формулу ДРУГОЙ Я, структура «Номы» конструирует еще один инвариант, позволяющий исключить субъективизм высказывания, способствуя созданию надсубъективных ценностей, надиндивидуальных подходов и способов понимания — то есть открыть еще одну диалогичность: отношение Другого к Другому, перетекающее из одного блока «синхрофазотрона» «Номы» в соседние ячейки, транслируя коммуникации, возможные не только в пространстве, но и во времени.
Может быть, путешествуя в пространстве «Номы», проходя сквозь «хронотопы» «Медгерменевтов», сквозь «тексты» Л.Рубинштейна и В.Сорокина, мы боремся со временем, отказываясь стать его добычей, сопротивляясь его демифологизации, его настойчивым усилиям втянуть нас в свою эпоху, чтобы не остаться навсегда в ближайших локально-временных окрестностях «Номы». Но преодолевая время, растворяя его в себе, мы усваиваем пространство Ильи Кабакова, переживаем его одухотворение, его фазы, становящиеся лейтмотивом мифологем и текстов, разыгрываемых не только на уровне образов и идей, но на собственно языковом уровне.
Может быть, путешествуя в пространстве «Номы», проходя сквозь «хронотопы» «Медгерменевтов», сквозь «тексты» Л.Рубинштейна и В.Сорокина, мы боремся со временем, отказываясь стать его добычей, сопротивляясь его демифологизации, его настойчивым усилиям втянуть нас в свою эпоху, чтобы не остаться навсегда в ближайших локально-временных окрестностях «Номы». Но преодолевая время, растворяя его в себе, мы усваиваем пространство Ильи Кабакова, переживаем его одухотворение, его фазы, становящиеся лейтмотивом мифологем и текстов, разыгрываемых не только на уровне образов и идей, но на собственно языковом уровне.
«Нома» раскрывается как интериоризация пространства, осуществляясь в нас как в-бирание, в-тягивание, во-влечение в себя, когда уже внешний мир, проецируясь на человека, на Я, задает ему свою меру. Ее энергия направлена на экстатические состояния, при которых человек ощущает себя в сильном пространственном поле, налагающем на него свою структуру — как в апокалиптическом пророчестве или при творении нового пространства и времени. Она явно соотнесена с телом, ключевым образом для П.Пепперштейна и И.Кабакова и выступающим не только как его иконический знак, но и как преформирующий пространство смысл. В этом пространстве-генераторе постоянно формируются сгущающаяся, драматизирующая и проникающая личностными началами логосная сущность, которая выступает как субстрат будущего внепространственного Я, воспринимающего свое «материнское» пространство, оценивающего его и создающего новые тела. Тело пространства «Номы» не только то средостение-матрица, позволяющее судить о пространстве — функцией инверсии, оно дает пространству язык, чтобы говорить о самом Я — о его целостности даже в такой агрегатной форме, как синхрофазотрон. Пространство И.Кабакова уготовано к принятию самых регулярных и банальных вещей и предметов, — канцелярских лампочек, кроватей и табуреток; оно восприимчиво и дает им себя, уступая вещам форму и предлагая им взамен свой порядок, свои правила простирания вещей в топосе. Благодаря этому актуализируется свойство пространства к членению, у него появляются голос и облик, разрушающие неразличимость стандартно-геометризованного, ньютоновского пространства гамбургского Кунстхалле, оно становится слышимым и видимым, оно сжимается и раскрывается, сгущается и разряжается, приоткрывая феномены «мнимого пространства», подчеркивая возможность непространственности как нового профетического измерения, параллельного «тотальной инсталляции».
Что сам Илья Кабаков выявляет для себя в «Номе», указывая на несовершенство многих предшествующих экспозиций, называя их «неправильно поставленными экспериментами»? Очевидно, новый целостный подход, новую интегральность и новую структуру сознания, способную стать автокоммуникатором, то есть обращаться к самому себе, минуя go between.
Нелинейность, параллелизм, одновременность, отсутствие причинно-следственной связи, сосредоточие на внутреннем, интровертность, позволяющая отдельному занимать относительно свободное положение в системе, недуальность, связь между собой по типу «одно во всем и все в одном», то есть одновременность уровней единого и единичного, абсолютного и эмпирического — идеальная модель, стремившаяся в «Номе» манифестировать многомерный тип мышления, соответствующий йнтертекстуальному образу жизни.
Мы на пороге третьего тысячелетия и, очевидно, уже живем в пограничной ситуации, где когда-то распавшаяся целостность, «круг», выпрямившийся в линию, вновь восстанавливает свою кривизну, закругляется, обретая свою универсальность. Не случайно в названии инсталляции присутствует понятие «круг», обнаруживающее реальный пластический смысл и образ в «синхрофазотроне» Ильи Кабакова, в «электронном кольце». Линейная фаза, фаза накопления информации, видимо, завершилась. Переходу сознания в новое качество, на новый уровень эволюции предшествует фаза свертывания, стягивания отдельного к своему центру для его вызревания, полноты, для накопления информации. Сознание на какое-то время как бы замыкается на себе, чтобы развернуться в новые измерения. Но сохранится ли при этом дискурс или он не справится с новым качеством информации и будет вынужден обратиться к своему реликтовому генезису — мгновенному озарению, раскрывающему целое и неделимое Я?..
Что сам Илья Кабаков выявляет для себя в «Номе», указывая на несовершенство многих предшествующих экспозиций, называя их «неправильно поставленными экспериментами»? Очевидно, новый целостный подход, новую интегральность и новую структуру сознания, способную стать автокоммуникатором, то есть обращаться к самому себе, минуя go between.
Нелинейность, параллелизм, одновременность, отсутствие причинно-следственной связи, сосредоточие на внутреннем, интровертность, позволяющая отдельному занимать относительно свободное положение в системе, недуальность, связь между собой по типу «одно во всем и все в одном», то есть одновременность уровней единого и единичного, абсолютного и эмпирического — идеальная модель, стремившаяся в «Номе» манифестировать многомерный тип мышления, соответствующий йнтертекстуальному образу жизни.
Мы на пороге третьего тысячелетия и, очевидно, уже живем в пограничной ситуации, где когда-то распавшаяся целостность, «круг», выпрямившийся в линию, вновь восстанавливает свою кривизну, закругляется, обретая свою универсальность. Не случайно в названии инсталляции присутствует понятие «круг», обнаруживающее реальный пластический смысл и образ в «синхрофазотроне» Ильи Кабакова, в «электронном кольце». Линейная фаза, фаза накопления информации, видимо, завершилась. Переходу сознания в новое качество, на новый уровень эволюции предшествует фаза свертывания, стягивания отдельного к своему центру для его вызревания, полноты, для накопления информации. Сознание на какое-то время как бы замыкается на себе, чтобы развернуться в новые измерения. Но сохранится ли при этом дискурс или он не справится с новым качеством информации и будет вынужден обратиться к своему реликтовому генезису — мгновенному озарению, раскрывающему целое и неделимое Я?..
