Производство пространств

Ламбри использует как традиционные, так и новые методы цифровой печати, чтобы вывести свои работы за пределы чистой документации. Ее фотографии отсылают к минималистской и абстрактной живописи, вызывая чувства трансцендентности. Через отбор и редактирование фотографий, Ламри делает своеобразный оммаж эстетике модернизма и создает атмосферу, выходящие за рамки фиксирования чисто функционального значения объектов. Ее работы обретают свой смысл, когда показываются в новом месте - тем самым устанавливая новые отношения между зрителем, объектом и пространством.
Работы Луизы Ламбри были представлены на двух Венецианских Биеннале, dAPERTutto, 48-й Международной арт-выставке в 1999 г., где Итальянский павильон бы удостоен Золотого Льва, а также в самых престижных галереях и музеях мира.
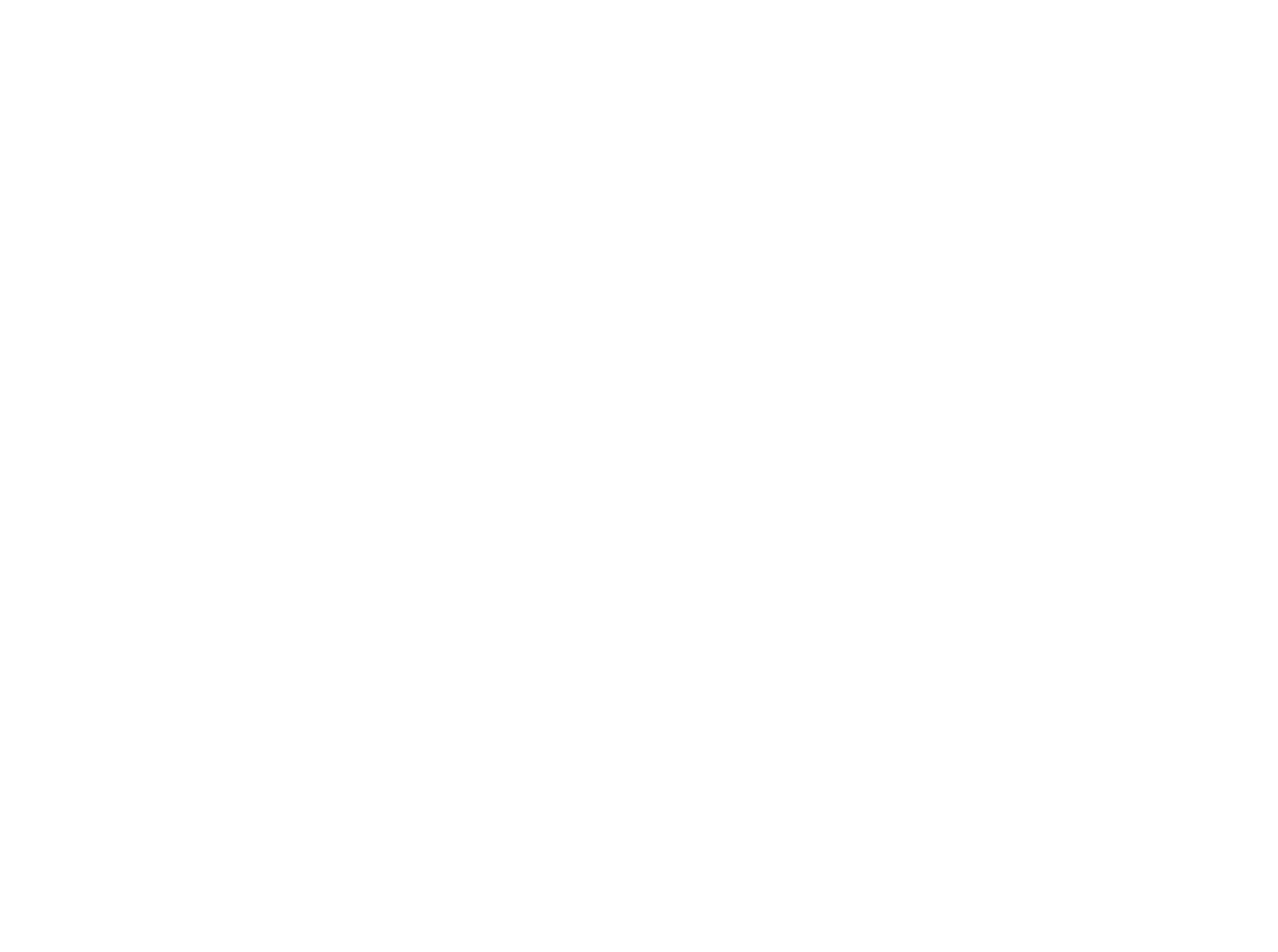
https://os.colta.ru/art/projects/8136/details/22498/?expand=yes&ysclid=lzmr138w8r635757976
Уолла условно считают важнейшим представителем ванкуверской школы постконцептуальной фотографии (куда относят, в частности, и фотоработы художника Родни Грэма).
Что он делает
С тех пор подсвеченные изнутри прозрачные боксы с фотографиями остаются главной продукцией Уолла. Это раз и навсегда найденная идеальная формула его искусства, стабильная, как была стабильна картина с классической эпохи по ХIХ век. Лайтбоксы Уолла соразмерны человеческому росту: сказывается заимствованное у живописи чувство масштаба.
Уолл неспешно расширяет арсенал технических средств и стилистик: всегда сохраняя приверженность постановочной фотографии, с 1991 года он начинает использовать компьютерный монтаж, с 1995-го — обращаться к черно-белой фотографии, отсылающей к иному контексту, чем цветная. Однако основа творчества Уолла остается постоянной, более того, со временем он уходит от внешней эффектности к более сдержанным вещам. Для понимания произведений Уолла важны его собственные высказывания: интервью, комментарии к работам и эссе.
О чем все это
В своем эссе Frames of Reference (можно перевести как «Сеть отсылок») Уолл пишет, что в 1977 году, когда он начинал работать, о фотографии можно еще было говорить в духе 60—70-х годов — как о медиуме со своими самостоятельными ценностями, воплощенными в работах таких классиков, как Уокер Эванс и Эжен Атже (прямая фотография, не требующая историко-художественной рефлексии). Однако становилось ясно, что прямая фотография уже достигла совершенства, и движение дальше казалось невозможным.
Один путь предлагали Роберт Смитсон, Эд Рушей и авторы, близкие концептуализму. Они использовали фотографию как одно из возможных средств высказывания, не углубляясь в ее собственную проблематику.
Уолл попытался поступить иначе — перейти на новый уровень путем глубокой рефлексии: изучить фотографию во всем ее культурном контексте от живописи до кино. Экспонирование фотографий внутри светящихся лайтбоксов показывает, что это не совсем фотографии в традиционном смысле, а нечто уже подвергнутое рефлексии. Световое излучение будто растворяет материальность фотографии в смысловом поле — оно может погаснуть, как только выключится лампа.
О лайтбоксах идет речь в эссе To the Spectator («Зрителю»): Уолл сопоставляет их с экранами телевизоров, которые наполняют своим свечением комнату и подчиняют ее себе. Там же он пишет о заключенной в сиянии неонового света двойственности. Неоновые лампы, с одной стороны, нейтральностью своего свечения знаменуют движение к естественности (лампы дневного света), с другой − демонстрируют необходимость изощренной искусственности для ее достижения: парадокс, характерный для модернизма и важный в творчестве Уолла.
Уолл подвергает рефлексии и саму технику фотографии: в эссе Photography and Liquid Intellegence («Фотография и жидкостное сознание») он, вводя особые термины, пишет о встрече «сухого сознания» фотомеханизма и «жидкостного сознания» запечатлеваемой реальности, всегда хранящих между собой дистанцию и встречающихся вплотную только в проявительной лаборатории. Такое углубление в историю, в данном случае в историю процесса создания снимка, — ход мысли, очень характерный для Уолла. Он неоднократно пишет о важности для него исторического самосознания, заключенного в вещах.
Именно такое всматривание в первоистоки наблюдаемых явлений позволяет Уоллу запечатлеть в своих произведениях совпадения противоположностей: естественного и искусственного, «сухого» и «жидкостного» сознания, о которых он писал в своих эссе, а также массового и уникального, чудесного и обыденного, живописного и фотографического, вечного и мимолетного.
Призыв погрузиться во всматривание адресует Уолл и зрителю, артикулируя в своих работах каждую деталь. Однако, всматриваясь, зритель всегда обнаруживает за изображенным недосказанность. С одной стороны, недосказанность пространственную, о которой Уолл говорит, что научился ей у живописи, поясняя, что в картине очень важно соотношение пространств видимых и предполагаемых; лучший тому пример — работа «Слепое окно» (Blind window). С другой стороны, недосказанность повествовательную (временную), которая связывает Уолла с кино и литературой. Однако даже создавая фотографии к «Заботе главы семейства» Кафки или «Невидимке» Ральфа Эллисона, Уолл не превращает свои произведения в иллюстрации. Для него важна не просто конкретная история, а заложенная в реальности возможность большой Истории, сообщающая глубину видимому.
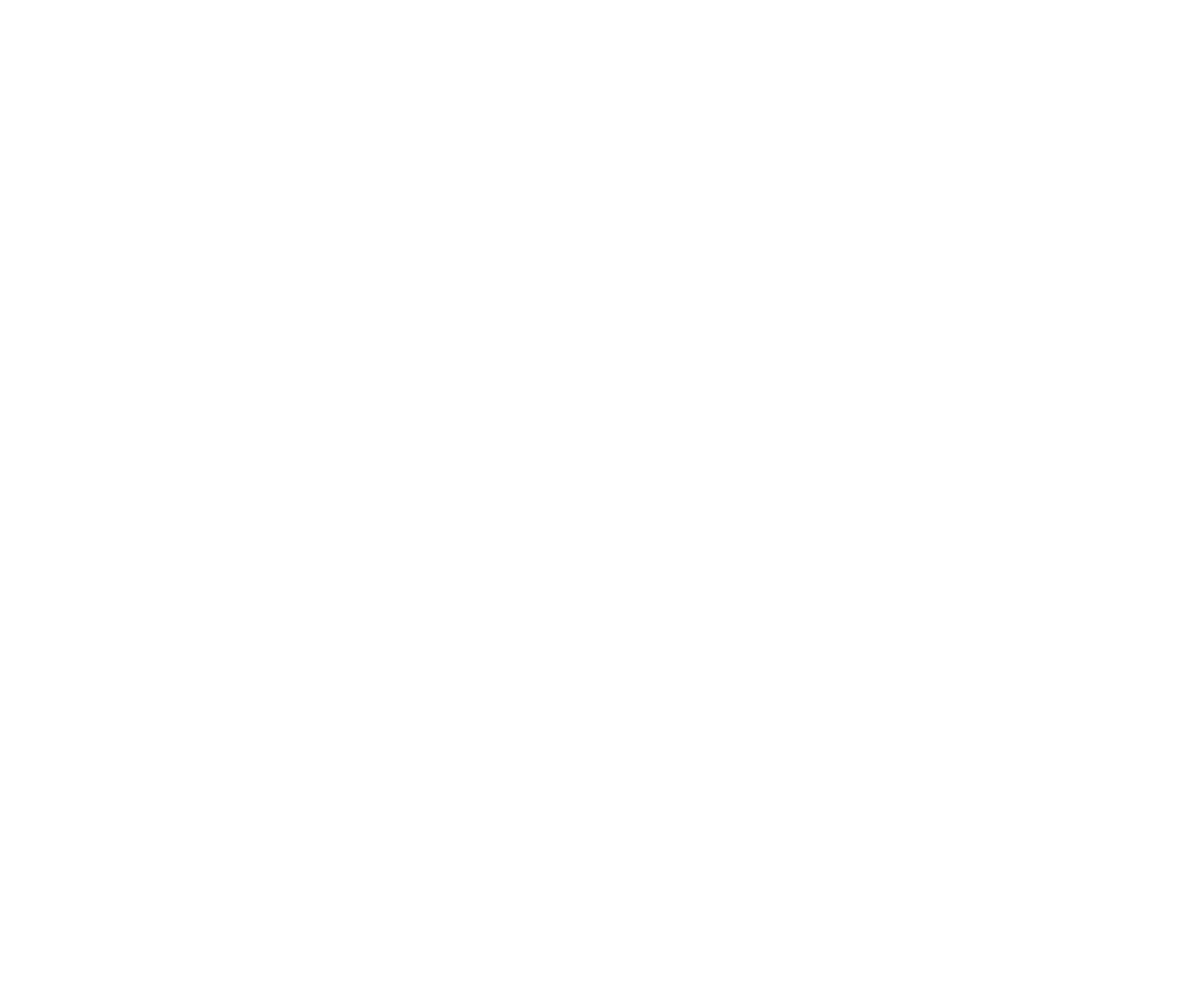
Суждения Уолла о собственных работах, приводимые в этом разделе, взяты в основном из его интервью в книге Крэйга Барнетта «Джефф Уолл» (Craig Burnett’s «Jeff Wall»).
«Порушенная комната» (The destroyed room, 1978)
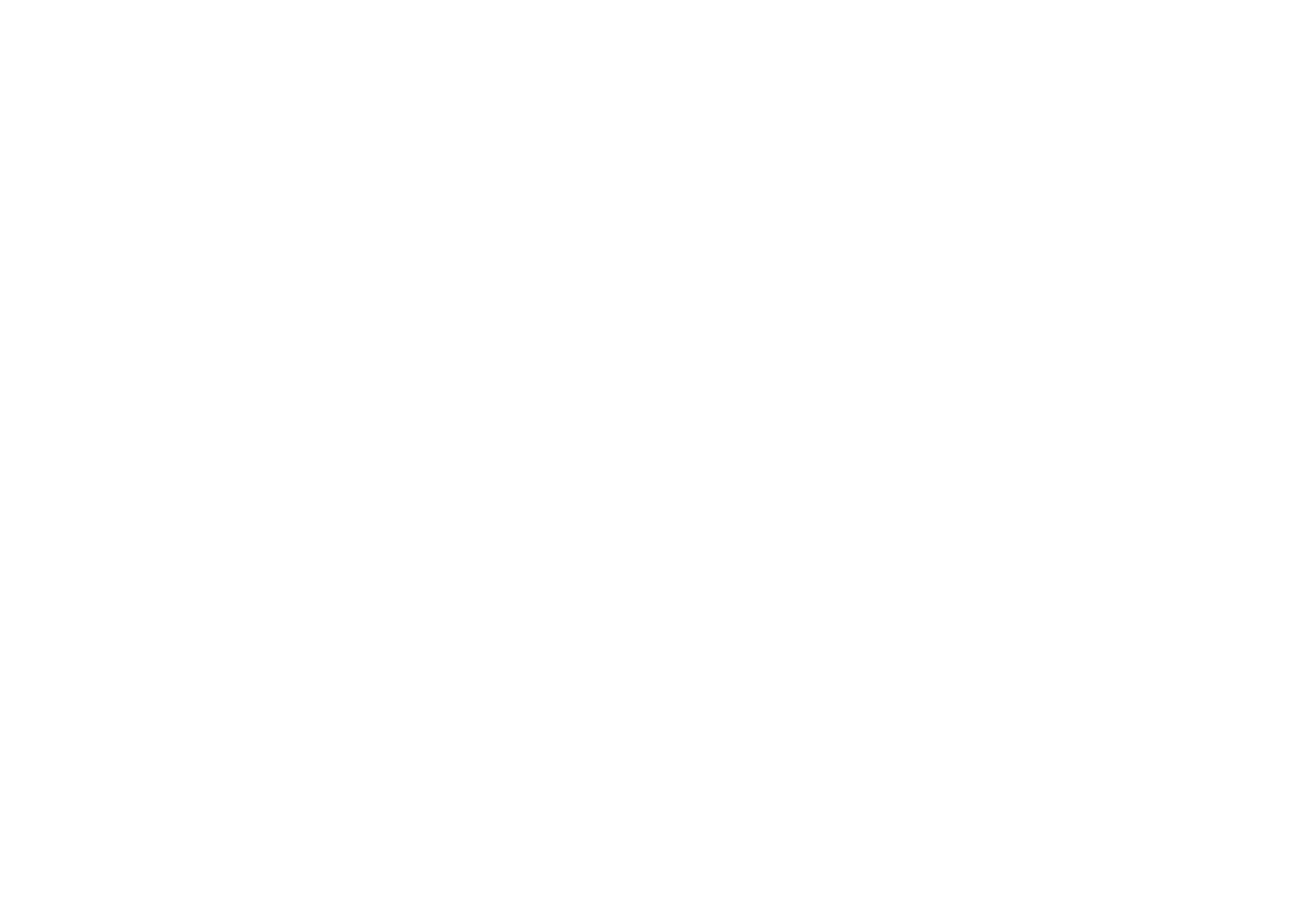
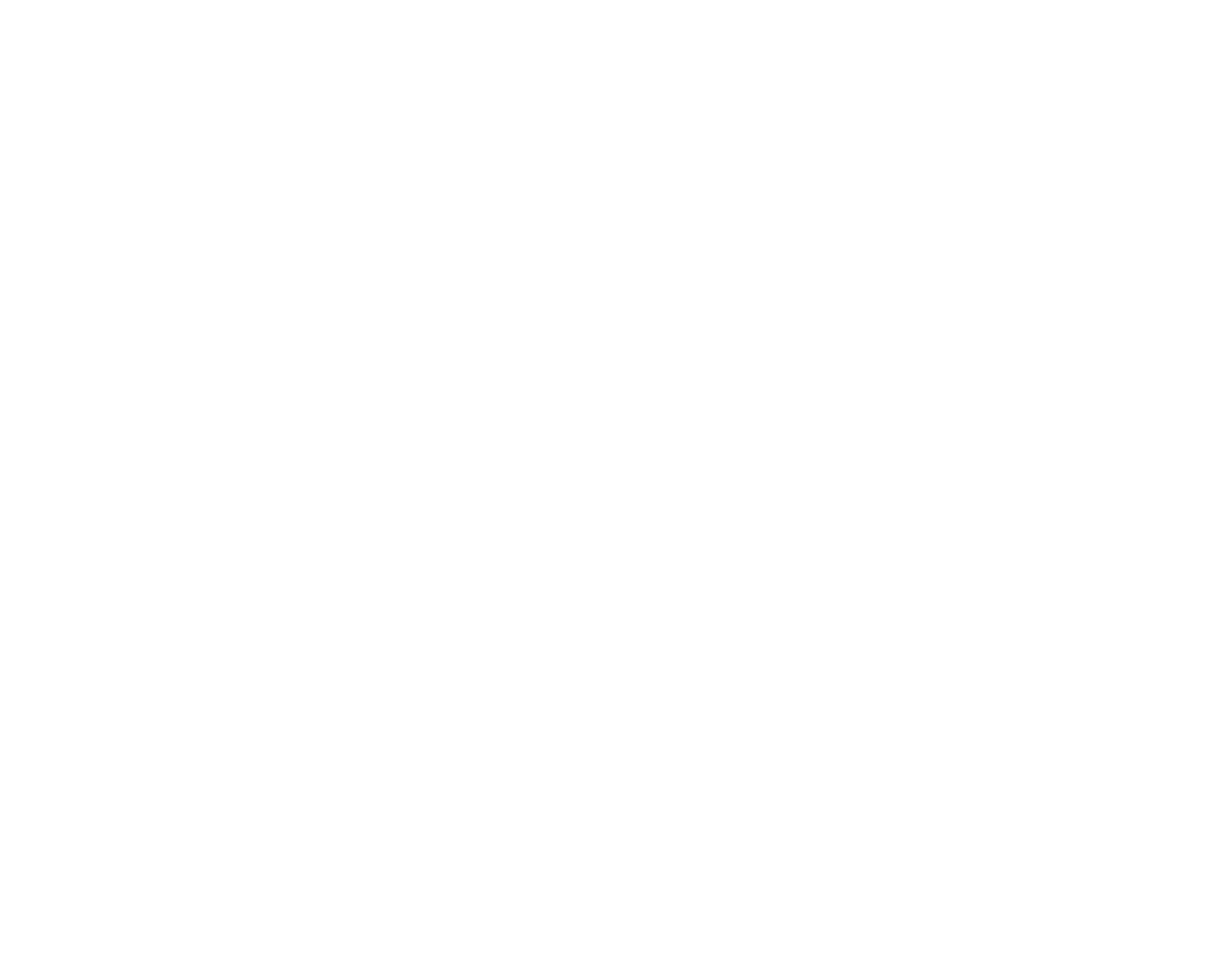
Это первый лайтбокс Уолла. В то время он читал лекции по романтизму, и картина «Смерть Сарданапала» Делакруа стала для него ключом в собственных художественных поисках. Уолл увидел в ней невротизирующее проникновение милитаризма в повседневность буржуазной жизни после наполеоновских войн. Во вдохновленной Делакруа фотографии мы видим уже не сам взрыв невротичности, а его последствия. Здесь типичное для Уолла умолчание о событии, сталкивающее зрителя с очевидным, но необъяснимым зрелищем свершившегося. В разметанных женских вещах, в рассеченных и вывороченных подобно раненым телам кровати и стене, сквозят эротизм и агрессия. Уолл заимствует у Делакруа идею срежиссированного хаоса: место Сарданапала, взирающего на бойню со стороны, занимает статуэтка танцовщицы на тумбочке, настолько нарочито поставленная в луче света, падающем из окна справа, что все разрушение вокруг кажется демонстративным, как реклама.
A. A violent order is disorder; and
B. A great disorder is an order. These
Two things are one.
(А. Жесткий порядок есть беспорядок; и / Б. Великий беспорядок есть порядок. Эти /
Две вещи суть одно.)
Такова одна из оппозиций современности, к которым столь внимателен Уолл.
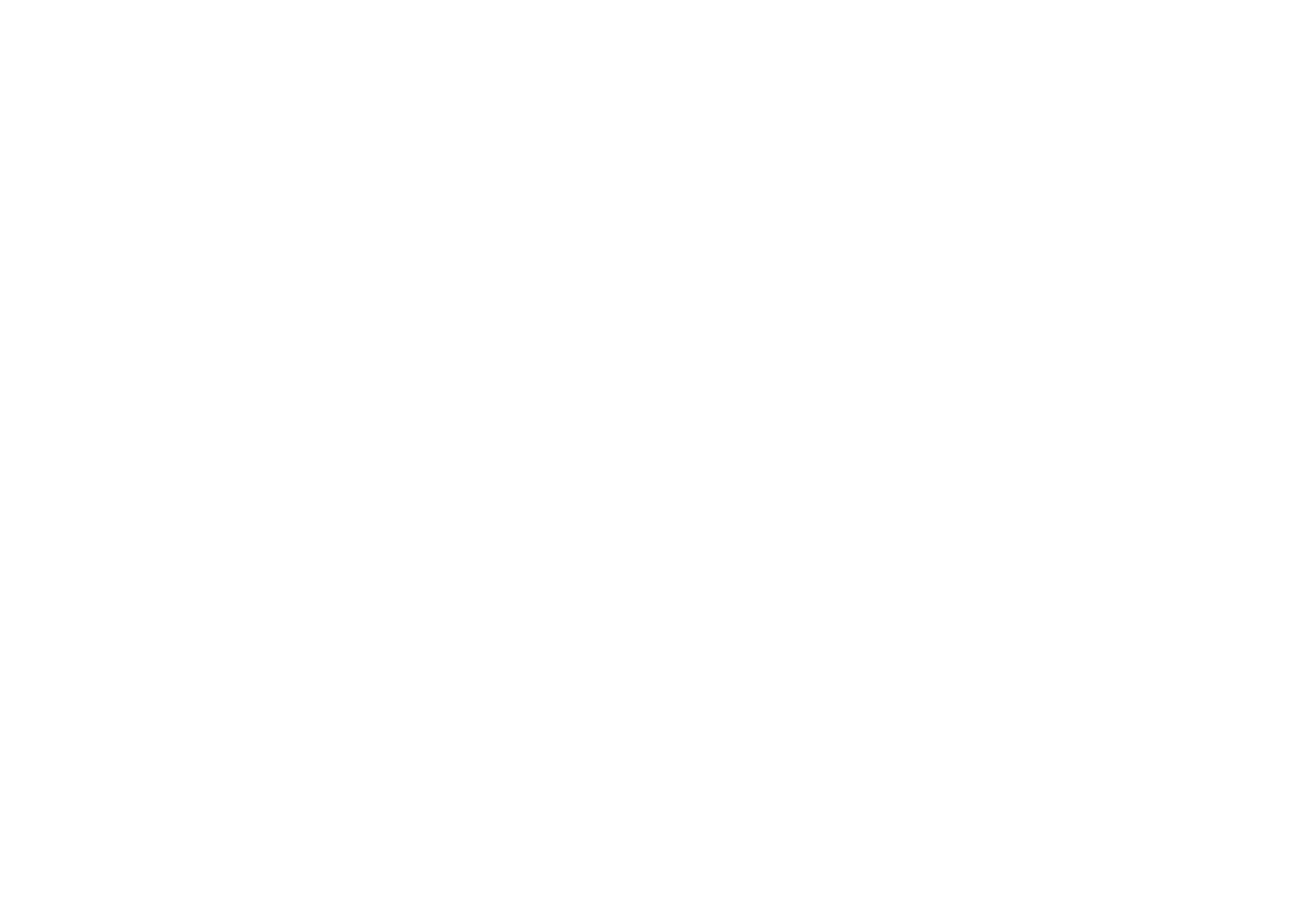

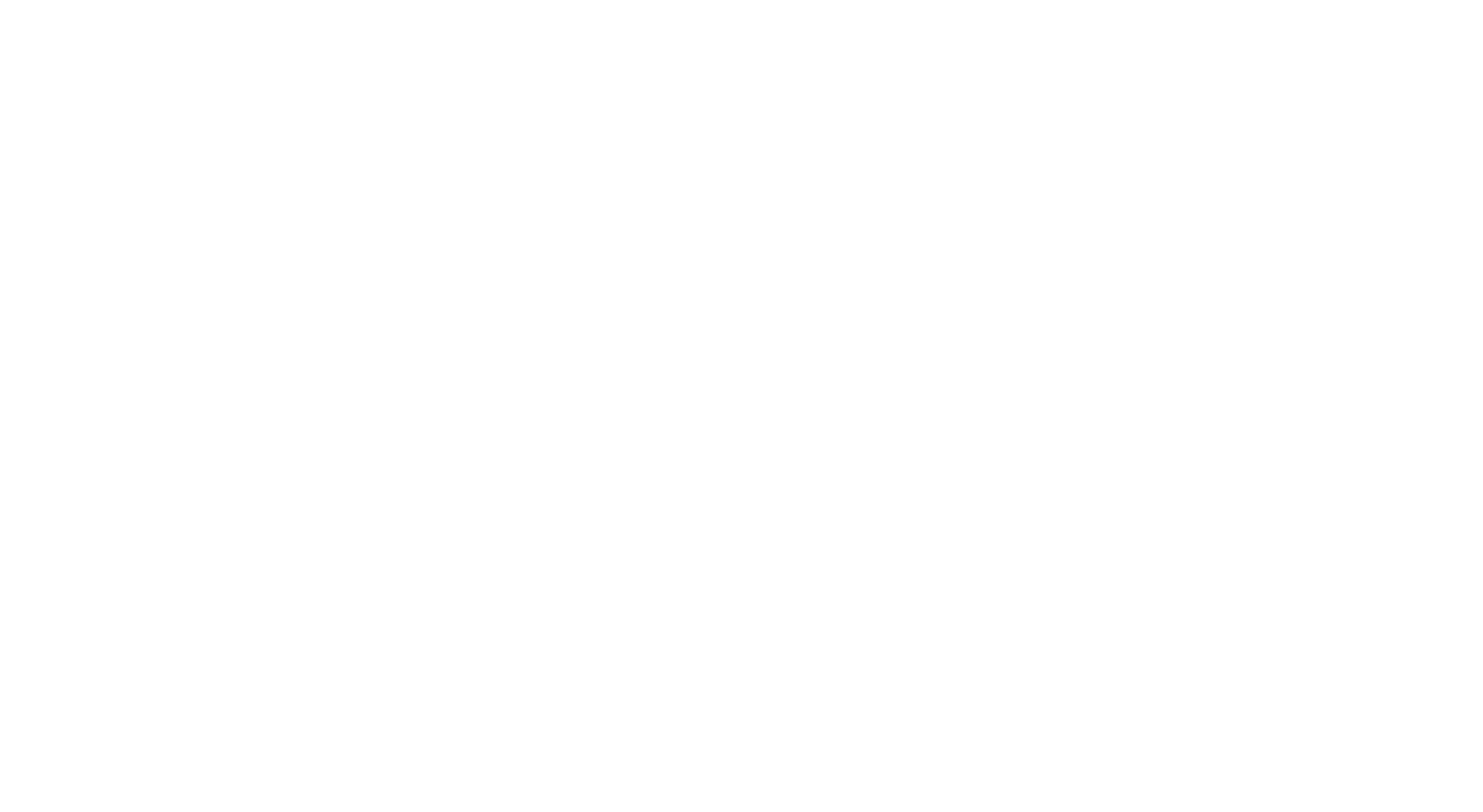


Являясь манифестацией технического прогресса, цифровая фотография в работах таких художников, как Уолл и Гурски, одновременно насыщается отсылками к истории искусства (сходная диалектика обнаруживается и в искусстве, оперирующем видеопроекциями). Помимо использования прямых цитат из искусства прошлого и нередко весьма внушительных размеров, работы этих художников отличаются картинными компо зициями и обладают выраженным повествовательным началом, что сближает их скорее с фигуративной живописью или класси ческим кинематографом, нежели с прямой фотографией. После резкой критики, которой передовое искусство после минимализма (особенно процесс-арт, боди-арт и инсталляция) подвергло пикториальное, картинное изображение - в значительной степени из-за того, что оно формирует представление о некоем виртуальном пространстве, предназначенном для индивиду ального сознания или единичного субъекта, способного в него «ВОЙТИ», - это изображение с триумфом возвращается в цифровой фотографии (а также в ряде других видов искусства). Более того, «пикториализм», господствовавший в живописи и фотографии до эпохи модернизма, похоже, снова восторжествовал после ее окончания. Из-за этого некоторые критики склонны считать художников вроде Уолла и Гурски консерваторами, но их искусство может быть понято и как возвращение к тому семиотически гибридному и темпорально неоднородному типу изображения, который преобладал во времена, предшествовавшие взлету
Джефф Уолл открыто признает этот аспект своих работ. По его мнению, авангардная эстетика фрагмента (коллажа и монтажа) приобрела почти механический характер в силу того преимущества, которое модернизм отдает любому разрыву с историей искусства; с точки зрения Уолла, это торжество прерывности игнорирует куда более существенную непрерывность, «присущую самому капитализму». «Критической риторике требовалось "другое", которое можно было противопоставить картинности, - утверждает Уолл. - Эта истина была абсолютизирована и превратилась в то, что Адорно называл "идентичностью". Я борюсь с этой идентичностью». Согласно этому аргументу, фрагментация, которой подвергаются и произведение искусства, и воспринимающий это произведение субъект, стал ныне нормой - <<Ортодоксальной формой культурного здравомыслия», в силу чего возврат к целостной картине и центрирванной позиции зрителя приобретает критический смысл «трансгрессии, направленной против института трансгрессии» (Уолл). Некоторым критикам Уолла такая аргументация кажется софистикой, однако она не исчерпывает смысла того, что мы видим на цветных диапозитивах Уолла, помещенных в большие лайтбоксы. Если формат этих работ копирует формат коммерческой рекламы, то их образный строй часто отсылает к исторической живописи, а иногда они и скомпонованы в манере, напоминающей произведения неоклассицизма, - то есть как некий сценический ансамбль, участники которого совершают важное действие или застигнуты в некий плодотворный момент. Так, «Диатриба» (1985), где мы видим двух матерей на пособии, одна из которых несет на руках
ребенка, среди невзрачной окраины рабочего поселка, намеренно перекликается (не только сходствами, но и отличиями) с картинами старых мастеров - например, с «Пейзажем с Диогеном» (1648) Никола Пуссена. А «Разрушенная комната» (l978), изображающая последствия погрома в комнате, по всей видимости принадлежащей проститутке, с разбросанной одеждой и вспоротым матрасом, намекает на «Смерть Сарданапала» (1827) Эжена Делакруа - романтическое, ориенталистское зрелище уничтожения целого гарема. Впрочем, внимание Уолла сосредоточено не только на классической, но и на ранней модернистской живописи. Как пишет критик Тьерри де Дюв, «Уолл словно возвращается на развилку исторического пути, к тому моменту, связанному с именем Мане, когда живопись отзывалась на шок, произведенный появлением фотографии; он словно выбирает маршрут, которым модернистская живопись не воспользовалась, и дает художнику современной жизни явиться в виде фотографа». Создавая современный фотографический вариант «Живописи современной жизни», Уолл стремится также реактивировать ее социально-критический аспект - разоблачить новые мифы капиталистического общества, подобно тому как Мане разоблачал мифы своего времени, инсценируя их в своих картинах. Уолл цитирует Мане многократно. Работа «Женщина и ее врач» (1980-1981), изображающая двух состоятельных персонажей, сидящих вместе на вечеринке, представляет собой обновленную версию темы двусмысленного свидания буржуазной пары, которое мы видим у Мане в картине «В оранжерее» ( 1879); а в «Рассказчике» (1) Уолл переносит знаменитый «Завтрак на траве» ( 1 863) на пустырь под автодорожным мостом, заменяя праздных представителей парижской богемы бездомными канадскими индейцами - жителями его родного Ванкувера.
Некоторым критикам целостность произведений Уолла кажется насильственной; у других же, напротив, вызывают вопросы их недостаточная согласованность и пародийный характер референций. Оба эффекта, однако, являются намеренными: Уолл стремится создать картинный порядок, отражающий порядок социальный, и в то же время дать почувствовать, что оба порядка пребывают в состоянии распада - и разрушение первого есть симптом разрушения второго.
Современное искусство- профессиональное поле, в котором главными ценностями считаются эксперимент и критический взгляд на вещи. Из этого следуют все остальные характеристики этого поля: мультимедийность, открытость, связь с теорией, внимание к повседневному, к контексту работы, к идеям художника.
Если у искусства и есть природа, то она устроена как язык. Каждое произведение, будучи высказыванием, передает какой-либо смысл посредством художественного образа. В принципе образ есть всегда, даже в случае абстракции или документалистики, произведение - это всегда метафора чего-то, даже если это что-то непреодолимое: эмоциональное состояние художника, размышления о природе искусства. В современном искусстве образ часто маскируется под нехудожественное - обыденное, документальное. Эта обыденность обманчива; картинки - лишь часть нарратива, истории, которую художник рассказывает или разыгрывает; ее и следует рассматривать как художественный образ, более многоплановый и тонкий, чем видимая часть работы.
У произведения искусства всегда есть невидимая, нематериальная составляющая. Главное здесь - смысл работы.
Любое высказывание - это конструкция, а не какое-то органическое единство. Язык - это не только слова и грамматика, а еще и действия - речевые акты, дискурсы, перформативность, которые производят пространство-время, или реальность.
Сконструированность произведений искусства, использование пустоты как источника энергии для воображения и позволяет видеть в них не просто эстетические объекты, а нечто большее: этически заряженные жесты, модели отношения к социальной реальности, помогающие понять ситуацию человека в меняющемся современном мире.

https://artguide.com/posts/2376

Кристофер Уильямс
(коммерческая фотография/искусство)
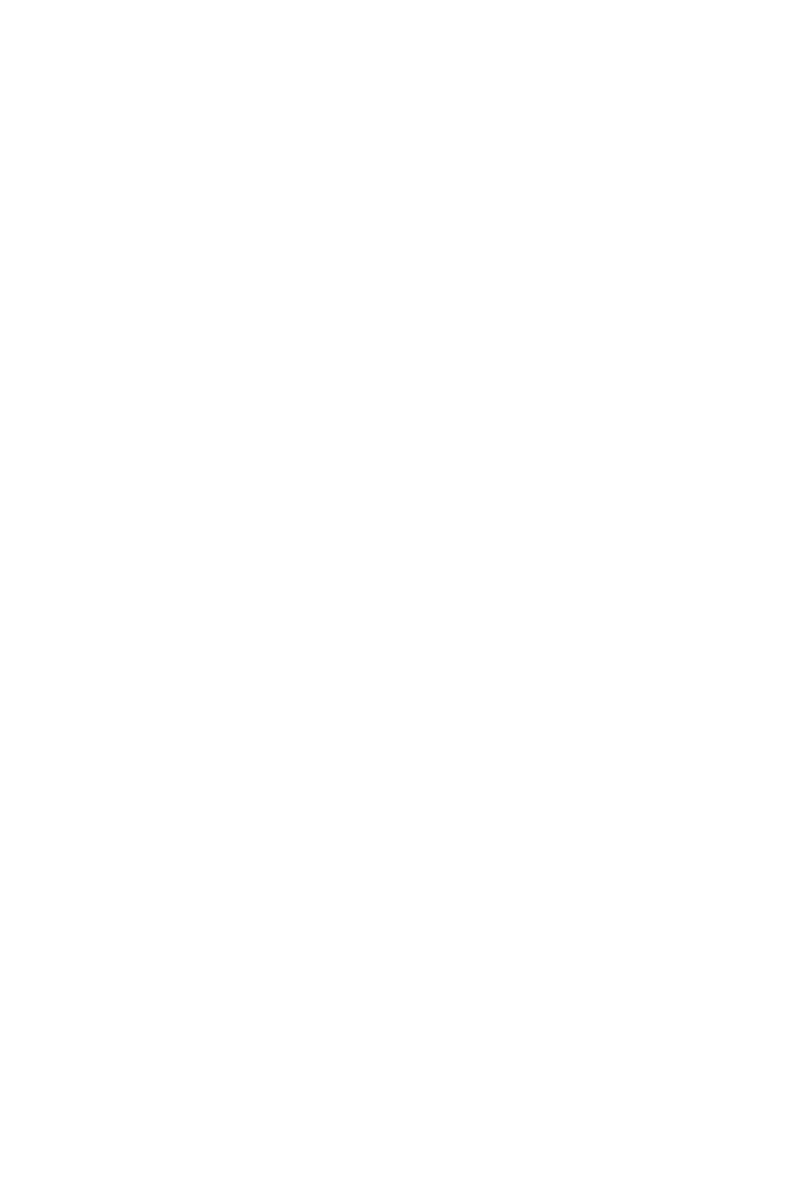
Начнем мы со странной фотографии девушки в нижнем белье, которая с одной стороны напоминает нам снимок из рекламного каталога, с другой - фотографию ню, где позе и изгибам тела уделено достаточно внимания, с третьей - учебный студийный снимок, достаточно небрежно сделанный. Автор этой фотографии американский художник Кристофер Уильямс / Christopher Williams, масштабная монография которого была отмечена премией Aperture Paris Photo Book Award 2014 в разделе каталог года.
Мы знаем, что все детали, ракурсы, позы и объекты на снимке не случайны, и нам нужно их для начала увидеть.

Ошибка в снимке Уильямса - это конструирующий элемент. Катализатор, сбивающая деталь для смещения взгляда зрителя. Тем самым автор говорит, что эта фотография неправильна как рекламная, не слишком эротичная для снимков обнаженной натуры и не является просто технической, backstage съемкой коммерческого съемочного процесса. Наш взгляд не может приспособиться и встроить это изображение в одну узнаваемую систему. Он вбирает их все, но ни одной полностью не принадлежит.
Этот снимок сконструирован, и если так, то его задача - показать обратную сторону фотографии, как механизма производства желания. «Лицевая» сторона, если мы мысленно развернемся относительно точки съемки и посмотрим на модель, будет сообщать нам «идеал». Но оказывается, что именно изнанка переводит нас из созерцания привлекательного в размышления о привлекательном, о том, как создается рекламная фотография и какие механизмы управляют нашим вниманием и желанием.
Арт-мир состоит из мест четырех типов. Это места встречи искусства и зрителей, на- пример, выставки или страницы публикаций. Вторая разновидность — места, где искусство производится и обсуждается, мастерские или социальные пространства. Есть еще и места внутри художественных нарративов и образов. Эти воображаемые, условные, намекаемые миры, инсценируемые и трансформируемые искусством, могут находиться как внутри, так и вне формальных границ работы. Да и сами границы подчас размыты и, скорее, похожи на перепады интенсивностей, пороги, ведущие в туманные поля контекстуального. Неявные локации контекстов составляют четвертое измерение пространственности арт-мира.
Четыре этих режима локализации сплетены и перемешаны, они взаимодействуют и конфликтуют, образуя пространственно-полити- ческие симбиозы, аффордансы и конвергенции. Пространственность арт-мира включает разнообразные сочетания физических, вооб- ражаемых и условных элементов, способных к актуализации и деактуализации, к частичному и теле-присутствию, к изменению собствен- ной природы. Идентичность места может быть полностью проявленной и неизменной, или текучей, частичной, даже пунктирной, призрачной, как у спящих институций, рассеянных сообществ, неувиденных работ, — вещей, тоже играющих немаловажную роль в полифонической сети пространств. Ими отмечены входы (подчас заброшенные) в параллельные реальности художественной жизни, линии ускользания, уводящие за общепри- знанные горизонты событий.
Характер места определяется связями с другими местами, взаимодействиями, вписывающими его в сферу культурного производства. Пространство арт-мира включает эти обмены и переходы между воображаемыми, дискурсивными, социальными, психологическими и физическими локациями. Институциональные, медийные, производственные пространства перетекают одно в другое, питаясь энергией актуализации во- ображаемого. Социокультурные среды сло- исты, пористы и пронизаны капиллярами; локализация в них — это дисперсный про- цесс, распределение и рекомбинации уров- ней, форм и рядов. Освобождаясь от оков унитарности, место предстает множеством, созвездием мерцающих моментов, далеких и близких, контингентных и регулярных. Распыленное место, — сцена, среда, атмосфера, — может существовать и виртуально (в терминологии Жиля Делеза), пусть даже лишь слегка окрашивая чьи-нибудь воспоминания, ощущения, мнения, привычки восприятия или медиа-травмы.
Распыленные места сетецентричны, подвижны и изменчивы. Они легко взаимодействуют, образуя новые конфигурации и экспе- риментальные формы пространственности. Социальные пространства становятся собой в множествах культурных практик. Согласно Анри Лефевру, трансмутации мест — часть всемирно-исторического процесса городской революции, последней фазы антропо- цена, смещающей акценты от потребностей к желаниям, превращающей культуру в инду- стрию, потребление — в производство. Если городская революция заявляет о себе через производство пространств, то искусство — в трансформациях мест, выражающих превра- щения духа времени. Места могут состоять из материальных, воображаемых и услов- ных компонентов. Это не просто пассивные физические вместилища вещей, экраны для проекций опыта или дискурсивные конструк- ции; в наши дни местам все легче являть собственный характер и идентичность. Тех- нологическая эквивалентность контроля и коммуникаций наделяет пространственные среды восприятием, памятью, вниманием, — традиционными атрибутами субъективности.
Место возникает вслед встрече. Событие встречи меняет ситуацию, актуализируя ее ранее неразличимые компоненты, высвечива- ет многослойность привычного и очевидного, неотменимую загадочность «таковости» ин- теробъективного. Встреча связывает потоки: социальные взаимодействия, образы и опыт, коллективное и личное, внешнее и внутрен- нее меняются местами, и в этом узле проис- ходит контакт миров: того, который был до нее, и того, который начинается после. Из этих сходящихся серий является продленное настоящее, охватывающее и прошлое, и бу- дущее. Длительность открывает повторения различий; в них начинается поэтическое кон- струирование места через локализации взаи- модействий. Рифмы состоят не только из слов; это созвучия разнородных элементов, включа- ющие места, потоки, события и тела.
Поворот от первичного импульса к рифме — это переход между порядками реальности: от встречи-в-себе к ритмическому ветвле- нию совпадений форм на различных планах совершается поэтическая трансформация, метафора, неотделимая от жизни. В метафо- рах заявляет о себе ситуация интеробъектив- ной квантовой спутанности, когда состояние одной вещи обнаруживает смысл другой. Действие в социальном пространстве создает множество образов ситуации, усиливая одни ее черты и приглушая другие. Импульс, веду- щий к возникновению локальной среды, спо- собной развернуться в социокультурное про- странство взаимодействий, — это поэтическая интенсификация реальности под действием метафоры. Озаренные созвездиями метафор, места встреч искусства и жизни открывают пе- реходы между сингулярным, неповторимым, индивидуальным и общим.
Это общее понимание, восприятие, отношение, форма жизни и связывает социокультурную ткань, вписывая собственную лока- лизацию в сеть других. Дух места заявляет о себе как идея, воплощенная в вещах, собы- тиях, словах или делах, разлитая в воздухе, в многообразиях перспектив, точек зрения и когнитивных карт. Динамика, призыв или вызов, выраженный в пространстве, склон- ность актуализировать виртуальное напо- минают способность перемещаться между мирами; такие идеи-атмосферы — важный элемент культурно-климатических систем. Главное обещание искусства состоит как раз в этой трансформации места его интеробъ- ективным «духом». Открываемая встречей поэтическая сила общего актуализирует раз- личия, которые в другой ситуации могли бы и не проявиться. До измерений, определе- ний и порядков, различие как интенсивность впервые проявляет себя в неожиданных из- менениях качества реальности; Жиль Делез называет их «пространственно-временными динамизмами». Формы и свойства элементов ситуации начинают искажаться и подраги- вать; рябь на поверхности вещей вдруг стяги- вается в вихрь, пространство пропитывается временем и вспыхивает сетями различий.
Пульсация первичной интенсивности содержит ключ к слабым силам простран- ственности, неразличимым в шуме массово- го производства и потребления. Эти силы, напоминающие о понятии thing-power у Джейн Бенетт, исходят от почти неразличи- мых следов будущего, немого вопрошания малозаметных фрагментов обыденного об их виртуальных конфигурациях. Сила места заявляет о себе и в тех факторах, которые Майкл Фрид называл абсорбцией и театраль- ностью, в способности притягивать и удержи- вать присутствие. Абсорбция (втягивание) и театральность (управление вниманием) явля- ются свойствами не только произведений, но и многих других предметов. Возникая в отно- шениях вещей и мест, они создают простран- ственность из напряжений между внешним и внутренним. Абсорбция — это свойство «вну- тренних отношений», композиции и других форм эстетического массажа зрительского воображения. Театральность — про «внешние отношения», вписанность произведения в социальный, институциональный, архитектурный пространственный порядок.
Против симметрии
Как утверждает в «Производстве пространства» Анри Лефевр, пространственные конструкции являются главным участком общественного производства и способом существования коллективов. Становление пространственных отношений идет в трех режи- мах: социальные практики, пространство репрезентаций и репрезентации пространства. Они проходят сквозь три мира: материальный, мир коллективно разделяемых идей и мир внутреннего опыта. Границы между ними проницаемы и размыты, и время от времени происходят встречи контекстов, привычек и страт. Встреча активирует вещи, обыденное обретает глубину, повседневное становится «местом силы» в процессе трансформации, напоминающей проекцию одной искри- вленной поверхности на другую. В окрест- ностях встречи бурлит событийность — спонтанное, возможное, намеки, интонации, выразительность. Из нее являются различия, высвобождая силы условного и имплицитного, видений и фантазмов, расчетов и надежд, неопределенности и риска.
Метафора разворачивает интенсивность в рифме. Повторение создает локализацию, часто распределенную; места в сетевом мире могут распыляться и пульсировать. Когда ин- тенсивность загустевает, из повторяющихся действий возникает место и начинается клю- чевой для культурного производства про- цесс связывания социального, ментального и физического миров. Место становится ситу- ацией: активированное множественное при- сутствие разноприродных форм раскрывает себя в омывающих их инфопотоках.
Самопрорисовывание ассамбляжа проис- ходит прерывисто, в смещениях и сдвигах: от первичного искажения данности, через про- ступание «непонятно чего» к саморазворачи- ванию в аутопойетическую сеть взаимодей- ствий. Так возникает относительно устойчивая конфигурация, потенциально наделенная спо- собностью отличать себя от не-себя, то есть самоощущением. На этом этапе ожидания перевешивают опыт, и это создает ощущение свежести, открытости будущему. Части новой конфигурации могут противоречить приня- тым правилам и регламентам, и ее работа с их точки зрения может выглядеть как дисфунк- ция. Ситуация — это поток, постоянная измен- чивость и многослойность, не равная самой себе. Ассамбляж возникает из фильтраций, замедлений, нарезок потока. При всем раз- нообразии подходов к сборке ассамбляжа, общим условием остается необходимость со- бираться, соприсутствовать, конструировать место как взаимосвязь возобновляемых взаи- модействий. Соприсутствовать — значит объ- единять темпоральности и через социальные практики населять места образами.
Каждая работа создает собственный мир; чтобы ее понять, нужно заглянуть в него, вдох- нуть его атмосферу. Этот виртуальный мир может быть дан как проект, модель, рекон- струкция, намек, симуляция, эхо или аллего- рия. Даже самая простая ситуация, например, фигуративная картина на стене музея, — это конфигурация разноприродных пространств, переводящая их в многомерный место-центричный ассамбляж. Он состоит как раз из тех компонентов, о которых пишет Лефевр. Вну- три картины — репрезентация пространства, снаружи — пространство репрезентаций и социальные практики. Смысл художественно- го высказывания образует бесшовную связь между этими тремя измерениями. Связь эта не умещается в рамки понятия об автономном произведении, поскольку включает и публи- ку, и дискурс, и институции. Мгновенность пе- рехода между внутренним и внешним — луч- шее доказательство того, что в эстетическом опыте свершается истина бытия.
Место возникает как след события встре- чи, связывающий взаимодействия в сеть, спо- собную отличать себя от окружающей среды и самовоспроизводиться. Момент растягива- ется и становится местом, детерриториали- зованным, подвижным, рассеивающимся и конденсирующимся по линиям взаимодей- ствий. Некоторые из этих связей становят- ся транслокальными носителями дальнего порядка, зернами пространств, растущих за счет поглощения мест. Если место — пятно, то пространство — линия. Напряжение между сингулярным так-бытием мест и импе- риализмом пространств реализуется и через конфликты, и через компромиссы. Места со- противляются пространствам, порой не вы- держивают, распыляются и меняют их, пре- вращаясь в темпоральные облака ритмов, опыта, памяти, надежд, тревог.
Самоощущение сгущается, наступает фаза метризации. Поначалу место возникает как различие-в-себе, без связи с определенной шкалой или мерой. Случайности и сингулярно- сти складываются в систему; локализации соз- дают условия для обретения ею способности отличать себя от окружающего, внутреннее от внешнего. Внешние отношения должны соответствовать параметрам окружающей среды; дистанции, позиции, ориентиры, — пространственное форматирование интенсивности неизбежно сталкивается с пробле- мой адаптации к господствующим метрикам. Места интегрируются в пространство, интенсивности пересчитываются в протяженности и расширения. Локальные темпоральности с их неповторимыми напряжениями раскладыва- ются в однородное пространство измеримых расстояний, масштабов и систем координат.
Метрика сковывает интенсивности, пода- вляя избыточное и спонтанное. Но не все, что укладывается в решетки количеств, обречено увяданию. Устойчивость и постоянство иден- тичности — качества, не столько онтологи- чески предзаданные, сколько практически полезные, — без метризации недостижимы. Сеть взаимодействий изобретает место, и, устремляясь вовне, схватывается и застыва- ет: отношения обретают форму. Метризация начинается с разбиения потока несвязных ин- тенсивностей на серии, ряды, единицы, звуки, буквы. Качественное рассеивается в количе- ственном: метризация переводит единичное в серийное, случайное в регулярное, интенсив- ное в протяженное. Шок встречи отзывается рифмой, намечающей ритмический рисунок, чтобы в нем раствориться.
Метризация, квантификация непрерывно- го и эластичного, колонизация реальности числами похожа на разлиновку и перфори- рование пространства-времени с последую- щей поляризацией и перекомпоновкой фраг- ментов. Такое (само)нарезание потоков на ритмизированные серии регулярных единиц Бернар Стиглер называет грамматизацией. Первичная интенсивность разливается и за- стывает, различие в себе раскладывается в систему. Вещи обретают меру: грамматизация задает сгусткам интенсивностей формальные параметры, превращая их в детали логическо- го конструктора. Эластичные длительности костенеют, раскрываясь дистанциями, гра- ницами, расписаниями, алгоритмами, потоки превращаются в платформы. Из таких сериа- лизаций и стратификаций возникают и память, и язык, и техника. Грамматизация — это исток технологической мутации гоминид, известной как эволюция человека.
Место может выглядеть как практика, со- общество, институция. Любой предмет — это место для чего-то еще. Места — посредники между внутренним и внешним; до метризации они живут интенсивностями, резонансами и энергиями. Включение в системы мер и цен- ностей, регистрация аппаратами «состояния ситуации» (Ален Бадью) происходит во вто- рой фазе индивидуации, когда оказывается, что быть собой — значит стать другим для других. Метризация вписывает подвижное облако вот-ности в принятые форматы, по- давляя отклонения, овнешняя различия и подчиняя их тотализующему порядку меры, осушая ландшафты виртуального, расправ- ляя складки, закоулки и наслоения, отрезая настоящее от прошлого и будущего.
В Новое время власть чисел над простран- ствами достигает новых максимумов в услови- ях промышленного капитализма. Возникает абстрактное пространство, так Лефевр назы- вает основную форму фордистской реально- сти. Его метрика задается бинарными оппо- зициями: работа — досуг, публичное — част- ное, синие воротнички — белые воротнички, бетон — стекло. Бинаризация неизбежно ведет к господству чисел, формул, пропози- ций. Абстрактное пространство вырастает из предшествующих форм пространственно- сти, основанных на конфискации фрагментов не-человеческого мира. Некогда изъятые из примордиального пейзажа и объявленные священными рощи, реки и холмы с развити- ем капитализма поглощаются производимым его машинами, безразличным к нуминозному абстрактным пространством.
Воплощением пространственной аб- стракции стала функционалистская архи- тектура. Урбанизм ХХ века служит власти функций и формул, а не символов и мифов, как домодернистская архитектурная тради- ция. Гладкие поверхности, минималистиче- ские объемы и однообразные ритмы — это пространственное эхо быстрого времени автомобилей, лифтов и эскалаторов. Клас- сическая архитектура стремилась сообщить жизни символическое измерение, вписывая движение тел в пространственную иерархию на основе мифологического нарратива, изло- женного с помощью стен, окон, ступеней и колонн; функционализм отвергает тяготение символов, перекодируя пространство в чис- ловую позициональную систему, матрицу.
Это абстрактное пространство, в котором значение мест задается формулами функци- онального зонирования. Производство тако- го пространства основано на специализации, анализе и проектировании. Если общие места не считаются продуктивными, то власть-зна- ние обходит их вниманием, оставляя им воз- можность превращаться в очаги субверсии. Абстрактное пространство полагает себя предсуществующим вещам, подобно набору коробок одна внутри другой или контейнеру, в котором каждая точка намертво схвачена декартовой тройкой чисел. Чистая объектив- ность, ничего кроме расстояний: простран- ство модерновой картины мира не зависит от точки зрения, оно как будто представляет себя «всевидящему взгляду из ниоткуда», как Донна Харауэй называет оптику классической науки. Функционализм производит жизнь как машину, посвящая еду и сон уже не богам, а функциям, научным представлениям о потребностях.
С точки зрения индивидов, а не классов и рядов, пространство предстает не столько количеством метров, сколько порядком от- ношений между вещами. По ту сторону аб- стракции оно рождается в отзвуках обменов, конфигураций и коллизий. Эластичное реля- ционное пространство являет себя в собы- тии единичных и неповторимых вещей. Оно не предшествует акторам, а возникает из их соположений и взаимодействий. Это реляци- онное пространство Лейбница, подавленное, но не уничтоженное пространством Ньюто- на: текучая и неоднородная среда различий и напряжений, мембран, складок и сдвигов. Такова интеробъективность, многомерный спектакль взаимодействий вещей, чья аван- сцена — интерсубъективность социальных пространств. Интенсивность, энергия разли- чий, определяющих идентичность места, свя- зана с неопределенностью и нелинейностью. Неопределенность — это тень крипто-при- сутствия массивов данных, нереализованных сценариев, невостребованных версий буду- щего. Нелинейные и неравновесные процес- сы, подобные турбулентности, кипению или горению, характерны и для массовых ней- рокогнитивных мутаций, сопровождающих развитие цифровых технологий и машинного обучения.
Разрушение — часть производства, уверяет метафизика истории. Нулевой цикл созидания — отрицание, снятие, покорение, переработ- ка; идея креативного разрушения, приливов и отливов формообразования была одним из главных открытий XIX века. Метрополия обращает покоряемые окраины в ресурс: в колониальной перспективе разрушения на периферии — условие созидания в центре. Разрушаемому остается лишь смириться с превращением в ресурс и отходы. Фордизм верил, что итогом цикла созидание-разруше- ние должно стать единство на новом уровне, кульминация драмы прогресса. Сегодня раз- рушение — вещь-в-себе: ему можно дать имя, но невозможно понять. Это абсолютное раз- рушение, не знающий прогрессистских тормо- зов техно-нигилизм, чей принципал — оциф- рованная масса, е-присутствие молчаливого большинства, социальная темная материя.
Фордизм испытывал священный трепет перед монотонной мощью промышленности и ненавидел то, что сопротивлялось превра- щению в ресурс. В XXI веке вера в станки уступает надежде на креативные возможно- сти языка. Если в Новое время инженерное и магическое мышление — противоположности, то в структурно-лингвистической па- радигме они скорее дополняют друг друга. Лингвистическое производство традиционно полагалось делом кустарным, скорее близ- ким магии, но с развитием цифровой техни- ки его размах становится беспрецедентным. В искусстве этот поворот отмечен «пост- медийным состоянием» (Розалинд Краусс). Новые медиа второй половины прошлого века, — перформанс, видео и инсталляция — лингвистически ориентированы: они ра- ботают не в воображаемом, а в социальном пространстве, организованном посредством языка. Искусство начинает пониматься в терминах лингвистики. Отсюда и логика де- материализации: если работа — знак, то ее смысл определяется не законами воспри- ятия или «внутренней логикой медиума», а договоренностью. Из-за этой зависимости от лингвистических конвенций контекстно-за- висимое искусство поначалу критиковали за театральность (Майкл Фрид): оно казалось похожим на актера, чей успех зависит от вни- мания публики.
Лингвистическое производство не огра- ничено гетеротопиями фабрик, как промыш- ленное; оно охватывает всю жизнь общества. Язык везде: его ресурсы — различия, они виртуальны и потому неисчерпаемы. Разли- чия возникают из интенсивностей, то есть из полноты бытия. Окружающая реальность производится коммуникациями, непрерыв- но, подобно конвейерам, встраивающими цепочки различий в коридоры бинарных оп- позиций. Чтобы критически наблюдать такую лингвистически производимую реальность, искусство разработало множество методо- логий переозначивания, апроприации и куль- турного браконьерства. Переозначивание, вырезая предмет из контекста, актуализирует виртуальное и отмечает этим начало индиви- дуации, эмерджентного само-изобретения.
Индивидуальность места, вещи или личности — это процесс интенсивного различия, узел ритмов, ролей и трансдукций, динамика отношений с окружающей средой. Вписыва- ние в доминирующий пространственный по- рядок может иметь характер борьбы, игры или нейропластического танца. Технологии власти-знания форматируют и администри- руют различия, локализуя их в лингвистиче- ски производимых ячейках социокультурной ткани. С ростом атмосферного давления интенсивное, доиндивидуальное, неявное и возможное могут оставаться собой только в линиях ускользания, оттенках неразличимости, микроутопиях распыленных мест. Неразличимость означает постоянное смещение; ее экологическая ниша включает места, существующие рассеянно, мерцая, ускользая от машин счета и алгоритмов распознавания. Если прошлое — наличная данность, то неразличимость на пороге актуализации становится формой жизни футуро-фантомов, неостывающих следов того, чего еще нет.
