
Влад Капустин
Эскейпология
Возможно ли сегодня куда-нибудь сбежать? Каким будет побег и куда приведет? Будет ли он удачным? Сегодня эти вопросы все чаще мелькают в потоке информации на фоне кризиса, охватывающего мир. Фигура человека, бегущего от ужасов войны, эко- логических катаклизмов, эпидемии очередного вируса регулярно возникает на экранах наших смартфонов, эта фигура словно зада- ет нам вопрос: «А вам есть куда сбежать?».
Дать глобальный ответ на этот вопрос могла бы некоторая теория/практика, ко- торая изучает разнообразные формы побе- гов. И такая теория/практика действительно существовала, называлась она «эскейполо- гия». Изначально, эскейпология — это раз- новидность иллюзионизма или искусство освобождения, в котором практиковались трюки с побегами. Эта практика была попу- лярна в начале ХХ века. Исполнитель трюка с побегом, или эскейпологист должен был выпутаться из трудной ситуации: освобо- диться из цепей, снять с себя наручники, выбраться из клетки, спастись из горящего здания. Знаменитым эскейпологистом был Гарри Гудини, впоследствии ставший насто- ящим символом освобождения, выражаю- щим легкость и неизменную страсть к побе- гу из, казалось бы, невозможных ситуаций. Сам термин «эскейпология» состоит из двух слов: «эскейп» и «логия», которые перево- дятся как «побег» и «наука», что, буквально, образует науку о побегах. Современность подсказывает, что именно подобной науки нам сегодня не хватает, и эскейпология требует пересмотра и актуализации, чтобы стать действительно масштабной теорией/ практикой освобождения.
Сборка
Какой должна быть теория, которая изуча- ет освобождение? В какой-то степени, любая теория представляет собой модель или огра- ничивающую рамку, но существуют концеп- ции моделей, которые в самом своем ядре заключают постоянное изменение и подвиж- ность — это сборки или ассамбляжи, откры- тые системы. Жиль Делез, разрабатывавший теорию сборки, дал такое определение: «Что такое сборка? Это множественность, кото- рая состоит из многих разнородных деталей и устанавливает связи, отношения между ними, по возрасту, полу, и правит — разными природами. Таким образом, единственное, что объединяет сборку, — это единство вза- имодействия: симбиоз, “симпатия”. Важны не родственные отношения, но альянсы, спла- вы; это не последовательности, линии про- исхождения, но инфекции, эпидемии, ветер»2. Побег всегда множественен, он включает в себя совершенно разные области объектов, знаний, агентов и действий, поэтому эскей- пология является сборкой в делезианском смысле. Эта сборка концентрируется на изучении ускользания от моделей, поиске разрывов и новых пространств. Сборка — это свободный выбор в соединении разно- родных элементов, а любой побег является ассамбляжем из практик преодоления гра- ниц, материальных объектов, пространств и людей. Сборка предполагает возможность дополняться, пересобираться и актуализи- роваться вновь и вновь. Нельзя не отметить инструментальный характер любой сборки и ее направленность на действие. У эскейпо- логии, как у сборки, тоже есть свой набор инструментов, основные из них: диалектика свободы, воображение, игра.
Диалектика свободы
Диалектика свободы помогает увидеть побег как амбивалентное действие: с одной стороны, посредством побега мы стремимся освободиться, но с другой — сам побег гро- зит превратиться в эскапизм — явление, счи- тающееся пагубной практикой, своего рода пленение иллюзией. Эскапизм можно на- звать перманентным бегством, в котором им- плицитно содержится несвобода, она про- является в невозможности остановиться — в этом случае побег зашел слишком далеко. Эскейпология исследует линию, соединяю- щую два полюса: побег как освобождение и побег как несвобода. Освобождение же происходит не только за счет движения, но и за счет поиска своей остановки.
Воображение
Любой побег — это проявление воображения. Воображение — второй инструмент эскейпологии. Киара Боттичи в рабо- те «От воображения к воображаемому и далее. К теории имажинальной политики»3 рассматривает воображение как политиче- ский инструмент и главный источник осво- бождения человека. Она указывает, что мы живем в эпоху кризиса воображения, и пытается найти выход из этого положения. Боттичи выстраивает свою теорию вообра- жения, отталкиваясь от философии Ханны Арендт и Корнелиуса Касториадиса. Ханна Арендт разрабатывала теорию воображе- ния как индивидуального качества, с помо- щью которого любой человек может стать свободным. Она считала, что воображение лежит в основе наших действий, потому что способно делать присутствующим то, что в данный момент отсутствует. Эту способность можно еще назвать производством альтер- нативы. Каждый человек может представить себе все иначе и сделать этот образ в ка- кой-то степени воплощенным — даже если он останется нематериальным, новый образ все равно изменит наше восприятие мира и даст возможность действовать по-другому.
Касториадис же осуществляет переход от воображения как индивидуального качества человека к воображаемому как коллектив- ной структуре. Действия (индивидуальные и коллективные), такие, как труд, потре- бление, любовь, война — невозможны вне коллективной символической сети, в кото- рую включены индивиды. Все обществен- ные функции всегда имеют свои социальные значения (символы), в разных обществах они могут отличаться, но без символов как социальных значений невозможно опреде- лить ни одну социальную функцию. На этом уровне работает «социальное воображае- мое». Касториадис считал, что социальное воображаемое двойственно: индивиды сами создают общество и символические сети, но в то же время те в ответ создают их.
Киара Боттичи считает, что сегодня нет смысла строго делить воображение на кол- лективное и индивидуальное — все мы регу- лярно оказываемся между этими позициями и можем между ними скользить. Такое под- вижное воображение она называет имажи- нальным. Имажиналь — это движение между крайними понятиями, а также автономия, выраженная в том, что свободное индивиду- альное воображение может подвергать со- мнению сложившийся символический поря- док (воображаемое) и за счет индивидуаль- ного направленного стремления постепенно изменять его в нужную сторону. Имажиналь становится частью эскейпологической сбор- ки: именно такое, автономное воображение нужно сегодня, чтобы ускользать от давления структуры и строить мир, где найдется место для каждого.
Игра
Гарри Гудини рассматривал свою деятель- ность как игру. Как эскейпологист, он видел ее целью изобретение новых побегов и во- площение их в жизнь. Более того, изначаль- ная эскейпология является разновидностью иллюзионизма, а любая игра предполага- ет некоторое отношение с иллюзией. Как пишет Роже Кайуа: само слово «иллюзия» означает вступление в игру — in-lusio4. В чем же особенность эскейпологии как игры? Современный побег может быть игровым действием, а игра — это свободная и до- бровольная деятельность, источник радости и забавы. Игрок всегда вправе остановить игру и переключиться на новую или выбрать другую деятельность, то есть игрок чередует разные побеги. Игра всегда производит обо- собленное пространство, которое выпадает из обычной жизни, в этом пространстве дей- ствуют другие правила и законы. По сути это отдельный, замкнутый, защищенный мир, по- этому игра часто становится тем местом, куда человек может сбежать на время.
Поиск разрывов и свободных пространств
Важная цель эскейпологии — поиск и изо- бретение новых, свободных пространств. Для того, чтобы свободное пространство сформировалось, необходим разрыв. Ди- алектика, воображение и игра работают с качеством, образованием и чередованием разрывов и внедрением в них новых про- странств. Что представляет собой разрыв? Разрыв имеет негативную природу, он может предстать в виде нестыковки, противоречия, физически это может быть неучтенная тер- ритория, отверстие, скрытая лакуна. Разры- вы любят скрываться во времени: оно может спрятать определенное пространство от глаз большинства, образуя таким образом временно-пространственный разрыв. Все, что ускользает от доминирующей системы кон- троля и не хочет быть посчитанным, имеет природу разрыва. Любой разрыв может за- полниться новым пространством — физиче- ским, виртуальным, воображаемым или сим- волическим. Подобные пространства могут воплощаться в форме миров, ландшафтов, городов, зданий, комнат, игр, книг, картин.
Эскейпология
Возможно ли сегодня куда-нибудь сбежать? Каким будет побег и куда приведет? Будет ли он удачным? Сегодня эти вопросы все чаще мелькают в потоке информации на фоне кризиса, охватывающего мир. Фигура человека, бегущего от ужасов войны, эко- логических катаклизмов, эпидемии очередного вируса регулярно возникает на экранах наших смартфонов, эта фигура словно зада- ет нам вопрос: «А вам есть куда сбежать?».
Дать глобальный ответ на этот вопрос могла бы некоторая теория/практика, ко- торая изучает разнообразные формы побе- гов. И такая теория/практика действительно существовала, называлась она «эскейполо- гия». Изначально, эскейпология — это раз- новидность иллюзионизма или искусство освобождения, в котором практиковались трюки с побегами. Эта практика была попу- лярна в начале ХХ века. Исполнитель трюка с побегом, или эскейпологист должен был выпутаться из трудной ситуации: освобо- диться из цепей, снять с себя наручники, выбраться из клетки, спастись из горящего здания. Знаменитым эскейпологистом был Гарри Гудини, впоследствии ставший насто- ящим символом освобождения, выражаю- щим легкость и неизменную страсть к побе- гу из, казалось бы, невозможных ситуаций. Сам термин «эскейпология» состоит из двух слов: «эскейп» и «логия», которые перево- дятся как «побег» и «наука», что, буквально, образует науку о побегах. Современность подсказывает, что именно подобной науки нам сегодня не хватает, и эскейпология требует пересмотра и актуализации, чтобы стать действительно масштабной теорией/ практикой освобождения.
Сборка
Какой должна быть теория, которая изуча- ет освобождение? В какой-то степени, любая теория представляет собой модель или огра- ничивающую рамку, но существуют концеп- ции моделей, которые в самом своем ядре заключают постоянное изменение и подвиж- ность — это сборки или ассамбляжи, откры- тые системы. Жиль Делез, разрабатывавший теорию сборки, дал такое определение: «Что такое сборка? Это множественность, кото- рая состоит из многих разнородных деталей и устанавливает связи, отношения между ними, по возрасту, полу, и правит — разными природами. Таким образом, единственное, что объединяет сборку, — это единство вза- имодействия: симбиоз, “симпатия”. Важны не родственные отношения, но альянсы, спла- вы; это не последовательности, линии про- исхождения, но инфекции, эпидемии, ветер»2. Побег всегда множественен, он включает в себя совершенно разные области объектов, знаний, агентов и действий, поэтому эскей- пология является сборкой в делезианском смысле. Эта сборка концентрируется на изучении ускользания от моделей, поиске разрывов и новых пространств. Сборка — это свободный выбор в соединении разно- родных элементов, а любой побег является ассамбляжем из практик преодоления гра- ниц, материальных объектов, пространств и людей. Сборка предполагает возможность дополняться, пересобираться и актуализи- роваться вновь и вновь. Нельзя не отметить инструментальный характер любой сборки и ее направленность на действие. У эскейпо- логии, как у сборки, тоже есть свой набор инструментов, основные из них: диалектика свободы, воображение, игра.
Диалектика свободы
Диалектика свободы помогает увидеть побег как амбивалентное действие: с одной стороны, посредством побега мы стремимся освободиться, но с другой — сам побег гро- зит превратиться в эскапизм — явление, счи- тающееся пагубной практикой, своего рода пленение иллюзией. Эскапизм можно на- звать перманентным бегством, в котором им- плицитно содержится несвобода, она про- является в невозможности остановиться — в этом случае побег зашел слишком далеко. Эскейпология исследует линию, соединяю- щую два полюса: побег как освобождение и побег как несвобода. Освобождение же происходит не только за счет движения, но и за счет поиска своей остановки.
Воображение
Любой побег — это проявление воображения. Воображение — второй инструмент эскейпологии. Киара Боттичи в рабо- те «От воображения к воображаемому и далее. К теории имажинальной политики»3 рассматривает воображение как политиче- ский инструмент и главный источник осво- бождения человека. Она указывает, что мы живем в эпоху кризиса воображения, и пытается найти выход из этого положения. Боттичи выстраивает свою теорию вообра- жения, отталкиваясь от философии Ханны Арендт и Корнелиуса Касториадиса. Ханна Арендт разрабатывала теорию воображе- ния как индивидуального качества, с помо- щью которого любой человек может стать свободным. Она считала, что воображение лежит в основе наших действий, потому что способно делать присутствующим то, что в данный момент отсутствует. Эту способность можно еще назвать производством альтер- нативы. Каждый человек может представить себе все иначе и сделать этот образ в ка- кой-то степени воплощенным — даже если он останется нематериальным, новый образ все равно изменит наше восприятие мира и даст возможность действовать по-другому.
Касториадис же осуществляет переход от воображения как индивидуального качества человека к воображаемому как коллектив- ной структуре. Действия (индивидуальные и коллективные), такие, как труд, потре- бление, любовь, война — невозможны вне коллективной символической сети, в кото- рую включены индивиды. Все обществен- ные функции всегда имеют свои социальные значения (символы), в разных обществах они могут отличаться, но без символов как социальных значений невозможно опреде- лить ни одну социальную функцию. На этом уровне работает «социальное воображае- мое». Касториадис считал, что социальное воображаемое двойственно: индивиды сами создают общество и символические сети, но в то же время те в ответ создают их.
Киара Боттичи считает, что сегодня нет смысла строго делить воображение на кол- лективное и индивидуальное — все мы регу- лярно оказываемся между этими позициями и можем между ними скользить. Такое под- вижное воображение она называет имажи- нальным. Имажиналь — это движение между крайними понятиями, а также автономия, выраженная в том, что свободное индивиду- альное воображение может подвергать со- мнению сложившийся символический поря- док (воображаемое) и за счет индивидуаль- ного направленного стремления постепенно изменять его в нужную сторону. Имажиналь становится частью эскейпологической сбор- ки: именно такое, автономное воображение нужно сегодня, чтобы ускользать от давления структуры и строить мир, где найдется место для каждого.
Игра
Гарри Гудини рассматривал свою деятель- ность как игру. Как эскейпологист, он видел ее целью изобретение новых побегов и во- площение их в жизнь. Более того, изначаль- ная эскейпология является разновидностью иллюзионизма, а любая игра предполага- ет некоторое отношение с иллюзией. Как пишет Роже Кайуа: само слово «иллюзия» означает вступление в игру — in-lusio4. В чем же особенность эскейпологии как игры? Современный побег может быть игровым действием, а игра — это свободная и до- бровольная деятельность, источник радости и забавы. Игрок всегда вправе остановить игру и переключиться на новую или выбрать другую деятельность, то есть игрок чередует разные побеги. Игра всегда производит обо- собленное пространство, которое выпадает из обычной жизни, в этом пространстве дей- ствуют другие правила и законы. По сути это отдельный, замкнутый, защищенный мир, по- этому игра часто становится тем местом, куда человек может сбежать на время.
Поиск разрывов и свободных пространств
Важная цель эскейпологии — поиск и изо- бретение новых, свободных пространств. Для того, чтобы свободное пространство сформировалось, необходим разрыв. Ди- алектика, воображение и игра работают с качеством, образованием и чередованием разрывов и внедрением в них новых про- странств. Что представляет собой разрыв? Разрыв имеет негативную природу, он может предстать в виде нестыковки, противоречия, физически это может быть неучтенная тер- ритория, отверстие, скрытая лакуна. Разры- вы любят скрываться во времени: оно может спрятать определенное пространство от глаз большинства, образуя таким образом временно-пространственный разрыв. Все, что ускользает от доминирующей системы кон- троля и не хочет быть посчитанным, имеет природу разрыва. Любой разрыв может за- полниться новым пространством — физиче- ским, виртуальным, воображаемым или сим- волическим. Подобные пространства могут воплощаться в форме миров, ландшафтов, городов, зданий, комнат, игр, книг, картин.
Борис Гройс Публичное пространство: от пустоты к парадоксу
Что такое «публичное пространство»? Часто мы склонны полагать, что публичное про- странство – это нечто уже существующее, нечто предзаданное, нечто, что существовало до того, как начался процесс приватизации этого пространства (как это, скажем, описано у Руссо), причем часть этого пространства оказалась обойдена процессом приватизации и осталась публичной: городские улицы и площади, или, может быть, воздух над этими городами, или пустоши вокруг этих городов. В этом смысле публичное пространство понимается как своего рода вакуум, открытое и пустое пространство, в котором могут расположиться некие строения, объекты искусства, памятники, коммерческая реклама, политическая пропаганда и много дру- гих вещей. Частные пространства, напротив, понимаются как пространства закрытые – выстро- енные их владельцами и архитекторами внутри открытых публичных пространств.
Здесь, однако, возникает следующий вопрос: способно ли публичное пространство, опи- санное таким образом, конституировать общественную жизнь? Под публичной жизнью мы понимаем публичное взаимодействие, сотрудничество или конфликт, но в первую очередь – опыт экспонирования, выставленности на всеобщее (общественное) обозрение, можно сказать – опыт публикации. А также – ощущение того, что в этом пространстве мы становимся частью общества. И тут мы должны отметить, что наш нормальный, привычный, повседневный опыт, связанный с предзаданным публичным пространством, не соответствует этому описанию пуб- личного существования, то есть существования под взглядом публики. И ощущению того, что в нем мы становимся частью общества, – тоже. Каждый отдельный горожанин, перемеща- ясь по современным публичным пространствам, поглощен скорее своими личными, частными интересами и задачами. Толпы на улицах и городской трафик переживаются этим индивидом исключительно – или (по меньшей мере) преимущественно – негативно: как нечто мешающее его быстрому и беспрепятственному перемещению по городу. В его опыте пустое публичное пространство не является условием для конституирования общества. Скорее он полагает, что это пространство – в идеале – должно оставаться пустым. Толпа на улицах – это одинокая толпа, толпа, которая общества не создает. (Исключение составляют фестивали, манифеста- ции и демонстрации или карнавал [каким он описан у Бахтина], которые актуализируют это нейтральное городское пространство и конституируют общество; или «дрейф» [dérive], кото- рый практиковали и описали Ги Дебор и другие ситуационисты, – практика создания уличных событий, которые конституируют общество на некоторое время.) Парадоксальным образом, городское пространство не является публичным из-за того, что в нем помещается людская
толпа.Соответственно,еслимыхотим,чтобыпубличноепространствоимелоболеепостоянный характер, то есть конституировалось как пространство, которое, в свою очередь, может кон- ституировать общество, нам нужно это публичное пространство построить, то есть построить вакуум, пустоту, в которой общество может состояться: впустить в город вакуум, ничто, не- место, если хотите – у-топию. Я был участником конференции в Музее Бранли в Париже, орга- низованной Жаном Нувелем. Конференция была посвящена памяти Жана Бодрийяра, но по преимуществу на ней как раз обсуждались вопросы социальной, общественной роли современ- ной архитектуры. Так вот, Жан Нувель в своем докладе постоянно подчеркивал, что его задачей как архитектора является создание вакуума, создание пустоты, в которой общество могло бы себя осознанно конституировать. Этот тезис поддержали и некоторые другие участники конференции – в частности, философ Поль Вирильо. Таким образом, здесь мы имеем дело с весьма парадоксальным проектом, который предполагает не столько строительство внутри публичного пространства, сколько строительство самого публичного пространства; строитель- ство не в пустом пространстве, но строительство самой пустоты, у-топии внутри приватизиро- ванных пространств и пространств частных интересов.
Этот проект напомнил мне знаменитый пассаж о роли архитектора из классического эссе Хайдеггера «Исток художественного творения» (1935–1937) – эссе, которое вне всяких сомне- ний решительно повлияло на формирование современного дискурса об искусстве и архитек- туре, и современного французского дискурса в особенности. В этом эссе Хайдеггер говорит именно о том, что задача архитектора состоит в создании вакуума, поля открытости в повсе- дневном мире – пространства, которое позволит увидеть этот мир в его цельности, в его «несо- крытости» (как это называет Хайдеггер), – между тем как сокрытость мира создается рутиной частной повседневной жизни. Архитектор, по словам Хайдеггера, должен создавать разрыв (Riss) в текстуре мира, разымать его на части, создавать посреди него просвет. В качестве примера Хайдеггер приводит пространство древнегреческого храма, очерченное колоннами и открытое для свободного доступа, – пространство, в котором могла конституировать себя публика (Versammlung), или, скорее, народ (Volk). Очевидно, что Жан Нувель следует тем же путем, стремясь создавать нулевые пространства – пространства, обладающие потенциалом для конституирования Versammlung (собрания, как бы мы сейчас сказали), – хотя использует для достижения этой цели иные средства, нежели архитекторы Древней Греции. Однако Хай- деггер – у которого за плечами уже был опыт тоталитарных общественных Versammlungen (собраний) – в том же эссе признает, что эта открытость также создает и закрытость – или даже, как он пишет, речь идет именно об открытости закрытости. Открытость, таким образом, оказывается обманчивой, потому что она создается искусственно – но, с другой стороны, она и должна создаваться искусственно, потому что изначально ее нигде не существует. Соответ- ственно, роль архитектора по отношению к публичному пространству оказывается в высшей степени парадоксальной: архитектор должен заниматься строительством вакуума, но строи- тельство чего-либо – и в том числе вакуума – всегда оказывается в конечном счете строитель- ством некоей закрытости. Это означает, что архитектура, которая пытается создать публичное пространство, в то же время должна стать, так сказать, антиархитектурой.
Архитекторы в основном старались обойти этот парадокс путем создания прозрачных конструкций – используя стекло и другие прозрачные материалы. (Жан Нувель в некотором смысле поступил так же.) Одним из ранних примеров таких сооружений являлся, как мы знаем, так называемый Хрустальный дворец, построенный Джозефом Пакстоном в 1851 году для Все- мирной выставки в Лондоне. Пакстон создал образ утопического публичного пространства, который на очень долгое время покорил воображение европейцев. И можно сказать, что этой архитектуре в самом деле удалось конституировать общество – хотя и с некоторой задержкой. А именно: на собраниях, проходивших во время второй Лондонской выставки в 1862 году, был учрежден Первый Интернационал (речь идет о собраниях английских, немецких и дру- гих рабочих, присланных на выставку своими боссами, чтобы те познакомились с современ- ным состоянием техники, – делегация французских рабочих финансировалась правительством Наполеона III). К тому времени выставочный павильон был уже другим – но можно сказать, что концепция Интернационала вдохновлялась именно тем первым, прозрачным, утопическим зданием Пакстона. В 1864 году было официально основано Международное товарищество рабочих. Интересно, что Карл Маркс зарегистрировался в руководящем органе товарищества как архитектор (каждый был обязан зарегистрироваться с указанием профессии). Очевидно Маркс видел в себе последователя Пакстона как создателя определенного рода публичного пространства. Вальтер Беньямин в своей незаконченной работе «Пассажи» настаивал на том, что между современной выставочной практикой, архитектурой выставочных пространств и возникновением современного понятия публичности есть связь, используя именно этот при- мер (Лондонская выставка – Первый Интернационал). Публичное пространство для Беньямина – это в основе своей пространство выставочное, пространство экспонирования и самоэкспо- нирования – товаров посетителям и посетителей друг другу. Прозрачный Хрустальный дворец экспонировал и цельность этого выставочного пространства, предъявляя его взгляду извне, и цельность внешнего мира, предъявляя его взгляду посетителей выставки, получивших наконец возможность смотреть сквозь стену.
Таким образом, вступление в просвет, пустоту, утопию публичного пространства озна- чает не только – и на самом деле не столько – открытие мира некоему субъекту, сколько экс- понирование самого этого субъекта – предъявление этого субъекта, его тела взгляду других. В публичном пространстве на субъекта налагается обязательство экспонировать самого себя – обязательство стать открытым, аутентичным и даже прозрачным для взгляда других. Впрочем, в сегодняшнем мире публичное пространство создается не столько прозрачностью архитек- туры, сколько медиа и современным туризмом – медиальным освещением и взглядом туриста. Медиа и туризм создают не построенное, а виртуальное публичное пространство прозрачности, в котором все и вся подлежит экспонированию – и подчиняется требованию аутентично- сти, несокрытия и разоблачения самого себя, требованию честности и истинности. Когда публичное пространство создается не архитектурными средствами, а в основном конституируется медиа и туризмом, архитектура и дизайн разворачиваются в новую сторону (и архитектура здесь, на самом деле, является частью дизайна) – в сторону аутентичности и честности, а не создания пространств для Versammlung.
Что такое «публичное пространство»? Часто мы склонны полагать, что публичное про- странство – это нечто уже существующее, нечто предзаданное, нечто, что существовало до того, как начался процесс приватизации этого пространства (как это, скажем, описано у Руссо), причем часть этого пространства оказалась обойдена процессом приватизации и осталась публичной: городские улицы и площади, или, может быть, воздух над этими городами, или пустоши вокруг этих городов. В этом смысле публичное пространство понимается как своего рода вакуум, открытое и пустое пространство, в котором могут расположиться некие строения, объекты искусства, памятники, коммерческая реклама, политическая пропаганда и много дру- гих вещей. Частные пространства, напротив, понимаются как пространства закрытые – выстро- енные их владельцами и архитекторами внутри открытых публичных пространств.
Здесь, однако, возникает следующий вопрос: способно ли публичное пространство, опи- санное таким образом, конституировать общественную жизнь? Под публичной жизнью мы понимаем публичное взаимодействие, сотрудничество или конфликт, но в первую очередь – опыт экспонирования, выставленности на всеобщее (общественное) обозрение, можно сказать – опыт публикации. А также – ощущение того, что в этом пространстве мы становимся частью общества. И тут мы должны отметить, что наш нормальный, привычный, повседневный опыт, связанный с предзаданным публичным пространством, не соответствует этому описанию пуб- личного существования, то есть существования под взглядом публики. И ощущению того, что в нем мы становимся частью общества, – тоже. Каждый отдельный горожанин, перемеща- ясь по современным публичным пространствам, поглощен скорее своими личными, частными интересами и задачами. Толпы на улицах и городской трафик переживаются этим индивидом исключительно – или (по меньшей мере) преимущественно – негативно: как нечто мешающее его быстрому и беспрепятственному перемещению по городу. В его опыте пустое публичное пространство не является условием для конституирования общества. Скорее он полагает, что это пространство – в идеале – должно оставаться пустым. Толпа на улицах – это одинокая толпа, толпа, которая общества не создает. (Исключение составляют фестивали, манифеста- ции и демонстрации или карнавал [каким он описан у Бахтина], которые актуализируют это нейтральное городское пространство и конституируют общество; или «дрейф» [dérive], кото- рый практиковали и описали Ги Дебор и другие ситуационисты, – практика создания уличных событий, которые конституируют общество на некоторое время.) Парадоксальным образом, городское пространство не является публичным из-за того, что в нем помещается людская
толпа.Соответственно,еслимыхотим,чтобыпубличноепространствоимелоболеепостоянный характер, то есть конституировалось как пространство, которое, в свою очередь, может кон- ституировать общество, нам нужно это публичное пространство построить, то есть построить вакуум, пустоту, в которой общество может состояться: впустить в город вакуум, ничто, не- место, если хотите – у-топию. Я был участником конференции в Музее Бранли в Париже, орга- низованной Жаном Нувелем. Конференция была посвящена памяти Жана Бодрийяра, но по преимуществу на ней как раз обсуждались вопросы социальной, общественной роли современ- ной архитектуры. Так вот, Жан Нувель в своем докладе постоянно подчеркивал, что его задачей как архитектора является создание вакуума, создание пустоты, в которой общество могло бы себя осознанно конституировать. Этот тезис поддержали и некоторые другие участники конференции – в частности, философ Поль Вирильо. Таким образом, здесь мы имеем дело с весьма парадоксальным проектом, который предполагает не столько строительство внутри публичного пространства, сколько строительство самого публичного пространства; строитель- ство не в пустом пространстве, но строительство самой пустоты, у-топии внутри приватизиро- ванных пространств и пространств частных интересов.
Этот проект напомнил мне знаменитый пассаж о роли архитектора из классического эссе Хайдеггера «Исток художественного творения» (1935–1937) – эссе, которое вне всяких сомне- ний решительно повлияло на формирование современного дискурса об искусстве и архитек- туре, и современного французского дискурса в особенности. В этом эссе Хайдеггер говорит именно о том, что задача архитектора состоит в создании вакуума, поля открытости в повсе- дневном мире – пространства, которое позволит увидеть этот мир в его цельности, в его «несо- крытости» (как это называет Хайдеггер), – между тем как сокрытость мира создается рутиной частной повседневной жизни. Архитектор, по словам Хайдеггера, должен создавать разрыв (Riss) в текстуре мира, разымать его на части, создавать посреди него просвет. В качестве примера Хайдеггер приводит пространство древнегреческого храма, очерченное колоннами и открытое для свободного доступа, – пространство, в котором могла конституировать себя публика (Versammlung), или, скорее, народ (Volk). Очевидно, что Жан Нувель следует тем же путем, стремясь создавать нулевые пространства – пространства, обладающие потенциалом для конституирования Versammlung (собрания, как бы мы сейчас сказали), – хотя использует для достижения этой цели иные средства, нежели архитекторы Древней Греции. Однако Хай- деггер – у которого за плечами уже был опыт тоталитарных общественных Versammlungen (собраний) – в том же эссе признает, что эта открытость также создает и закрытость – или даже, как он пишет, речь идет именно об открытости закрытости. Открытость, таким образом, оказывается обманчивой, потому что она создается искусственно – но, с другой стороны, она и должна создаваться искусственно, потому что изначально ее нигде не существует. Соответ- ственно, роль архитектора по отношению к публичному пространству оказывается в высшей степени парадоксальной: архитектор должен заниматься строительством вакуума, но строи- тельство чего-либо – и в том числе вакуума – всегда оказывается в конечном счете строитель- ством некоей закрытости. Это означает, что архитектура, которая пытается создать публичное пространство, в то же время должна стать, так сказать, антиархитектурой.
Архитекторы в основном старались обойти этот парадокс путем создания прозрачных конструкций – используя стекло и другие прозрачные материалы. (Жан Нувель в некотором смысле поступил так же.) Одним из ранних примеров таких сооружений являлся, как мы знаем, так называемый Хрустальный дворец, построенный Джозефом Пакстоном в 1851 году для Все- мирной выставки в Лондоне. Пакстон создал образ утопического публичного пространства, который на очень долгое время покорил воображение европейцев. И можно сказать, что этой архитектуре в самом деле удалось конституировать общество – хотя и с некоторой задержкой. А именно: на собраниях, проходивших во время второй Лондонской выставки в 1862 году, был учрежден Первый Интернационал (речь идет о собраниях английских, немецких и дру- гих рабочих, присланных на выставку своими боссами, чтобы те познакомились с современ- ным состоянием техники, – делегация французских рабочих финансировалась правительством Наполеона III). К тому времени выставочный павильон был уже другим – но можно сказать, что концепция Интернационала вдохновлялась именно тем первым, прозрачным, утопическим зданием Пакстона. В 1864 году было официально основано Международное товарищество рабочих. Интересно, что Карл Маркс зарегистрировался в руководящем органе товарищества как архитектор (каждый был обязан зарегистрироваться с указанием профессии). Очевидно Маркс видел в себе последователя Пакстона как создателя определенного рода публичного пространства. Вальтер Беньямин в своей незаконченной работе «Пассажи» настаивал на том, что между современной выставочной практикой, архитектурой выставочных пространств и возникновением современного понятия публичности есть связь, используя именно этот при- мер (Лондонская выставка – Первый Интернационал). Публичное пространство для Беньямина – это в основе своей пространство выставочное, пространство экспонирования и самоэкспо- нирования – товаров посетителям и посетителей друг другу. Прозрачный Хрустальный дворец экспонировал и цельность этого выставочного пространства, предъявляя его взгляду извне, и цельность внешнего мира, предъявляя его взгляду посетителей выставки, получивших наконец возможность смотреть сквозь стену.
Таким образом, вступление в просвет, пустоту, утопию публичного пространства озна- чает не только – и на самом деле не столько – открытие мира некоему субъекту, сколько экс- понирование самого этого субъекта – предъявление этого субъекта, его тела взгляду других. В публичном пространстве на субъекта налагается обязательство экспонировать самого себя – обязательство стать открытым, аутентичным и даже прозрачным для взгляда других. Впрочем, в сегодняшнем мире публичное пространство создается не столько прозрачностью архитек- туры, сколько медиа и современным туризмом – медиальным освещением и взглядом туриста. Медиа и туризм создают не построенное, а виртуальное публичное пространство прозрачности, в котором все и вся подлежит экспонированию – и подчиняется требованию аутентично- сти, несокрытия и разоблачения самого себя, требованию честности и истинности. Когда публичное пространство создается не архитектурными средствами, а в основном конституируется медиа и туризмом, архитектура и дизайн разворачиваются в новую сторону (и архитектура здесь, на самом деле, является частью дизайна) – в сторону аутентичности и честности, а не создания пространств для Versammlung.
Ранним свидетельством такого поворота можно считать знаменитое эссе архитектора Адольфа Лооса «Орнамент и преступление» (1908). В первых же строках своего эссе Лоос постулирует единство эстетического и этического. Он осуждает любую декоративность, любой орнамент как проявление безнравственности и порока. Внешность человека является для Лооса непосредственным выражением его этической позиции. Лоос, например – как ему каза- лось, – смог показать, что татуировками себя украшают только преступники, люди примитив- ные и невежественные или дегенераты. Украшение таким образом является выражением либо аморальности, либо преступности: «Папуас покрывает татуировками свою кожу, свои лодки и весла – короче говоря, все, до чего дотянется рука. Он не преступник. Современный чело- век, который себя татуирует, – либо преступник, либо дегенерат». Особенно поражает в этой цитате то, что Лоос не делает никакой разницы между татуированием кожи и украшением лодки или весла. Точно так же как современный человек должен – как это от него ожидается – предстать перед взглядом Другого как честный и чистый объект, неприкрашенный и не «обра- ботанный» дизайном, так и все остальные вещи, с которыми этот человек имеет дело, должны быть предъявлены нам как вещи честные и чистые, без прикрас и без дизайнерской обработки. Только в этом случае вещь будет свидетельствовать о том, что душа человека, который ею пользуется, чиста, целомудренна и неиспорченна. По Лоосу, функция дизайна состоит не в том, чтобы каждый раз по-новому упаковывать, украшать и декорировать вещи, то есть постоянно предлагать новый дизайн для второстепенной внешности вещей, оставляя их внутренность, их истинную природу скрытой. Скорее настоящая функция современного дизайна состоит в том, чтобы отбить у людей желание заниматься дизайном вещей как таковым. Лоос, напри- мер, рассказывает, как он пытался убедить сапожника, которому он заказал ботинки, никак их не украшать. Лоосу достаточно, чтобы сапожник взял наилучшие материалы и аккуратно ими распорядился. Качество ботинок определяется качеством материала и добросовестностью и точностью, с которыми выполнена работа, а не их внешним видом. Украшение ботинок пре- ступно, поскольку оно не способствует раскрытию честности сапожника, то есть этического измерения ботинок. Орнамент скрывает этически неудовлетворительные аспекты продукции, а этически безупречные – делает нераспознаваемыми. Для Лооса настоящий дизайн – это борьба с дизайном, борьба с преступным желанием скрыть этическую суть вещей под их эстетиче- ской поверхностью. Однако, парадоксальным образом, только создание иного, обнажающего суть орнамента – то есть антидизайна – гарантирует то единство этического и эстетического, к которому стремился Лоос.
У борьбы с прикладными искусствами, в которую вовлечен Лоос, несомненно есть мес- сианские, апокалипсические обертона. Так, например, Лоос писал: «Не плачьте. Разве вы не видите, что величие нашего века состоит в самой нашей неспособности создать новый орна- мент? Мы – по ту сторону орнамента, и мы достигли ясной, неприкрашенной простоты. Воз- зрите, время близко, и исполнение времен ждет нас. Скоро улицы городов воссияют, как белые стены! Подобно Сиону, Святому Граду, Небесной столице. И тогда исполнится все написан- ное». Таким образом, борьба с прикладными искусствами становится последней битвой перед наступлением Царства Божия на Земле. Лоос хотел низвести небеса на землю; он хотел видеть вещи такими, каковы они есть, без прикрас. Соответственно, Лоос хотел присвоить себе боже- ственный взгляд. Больше того – он хотел, чтобы каждый мог видеть вещи такими, каковы они есть и каковыми они открываются взгляду Бога. Модернистский дизайн стремится к «апока- липсису сегодня» – к апокалипсису, который снимет с вещей их покровы, очистит их от декора и даст нам увидеть их такими, каковы они есть на самом деле. Не понимая того, что дизайн претендует именно на выявление истины вещей, невозможно понять многие дискуссии, которые ведут на протяжении ХХ века дизайнеры, художники и теоретики искусства. Такие худож- ники и дизайнеры, как Дональд Джадд, или такие архитекторы, как Херцог & де Мерон – я называю лишь некоторых, – чтобы оправдать свои художественные практики, прибегают не к эстетической, а скорее к этической аргументации, то есть апеллируют к истине вещей как таковых. Модернистский архитектор или дизайнер не ждут конца света, чтобы очистить вещи от внешней шелухи и представить их людям такими, каковы они есть. Они хотят, чтобы апо- калипсическое видение появилось у каждого здесь и сейчас – и превратило каждого в Нового Человека. Тело принимает форму души. Душа становится телом. Все вещи становятся небес- ными. Небесное становится земным, материальным. Современность становится абсолютом.
Mодернистское производство искренности функционировало как редукция дизайна, и цель этой редукции состояла в создании пустого, вакуумного пространства посреди мира дизайна, в уничтожении дизайна, в использовании нулевого дизайна. Художественный аван- гард стремился к созданию зон, которые были бы свободны от дизайна и которые восприни- мались бы как зоны честности, высокой морали, искренности и доверия. Нулевой дизайн – это попытка искусственно создать для зрителя разрыв в плотной текстуре мира – зону прозрач- ности, которая позволит зрителю увидеть вещи такими, каковы они есть в действительности. В этом смысле требование редуцировать (а на самом деле – устранить) дизайн, сформулиро- ванное Лоосом, совершенно совпадает с требованием создавать вакуум, сформулированным Нувелем. В обоих случаях мы имеем дело со стремлением к честности и прозрачности – и того, на что мы обращаем свой взгляд, и нас самих, когда мы предстаем перед взглядом других.
Дизайн сегодня в основном понимается как способ эстетизации мира, товаров, челове- ческих тел, зданий и пр. А эстетизация, в свою очередь, в основном отождествляется с соблаз- нением и прославлением. Вальтер Беньямин, безусловно, подразумевал именно такое исполь- зование понятия «эстетизация», когда противопоставлял политизацию эстетики эстетизации политики в конце своего знаменитого эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости».
Здесь функция дизайна по-прежнему формулируется в терминах старого метафизиче- ского противопоставления внешности и сути. Дизайн, по Беньямину, ответствен только за внешний вид вещей и, следовательно, обречен на то, чтобы скрывать их сущность, обманы- вать взгляд зрителя – препятствовать пониманию истинной природы реальности. Соответ- ственно, дизайн последовательно понимался как манифестация власти вездесущего рынка, меновой стоимости, товарного фетишизма, общества спектакля – как создание соблазнитель- ной поверхности, за которой сами вещи не просто становятся незримыми, но исчезают вовсе. Но уже само это описание показывает, что дизайн – это не просто машина по декорированию вещей – скорее это машина по производству подозрения по отношению к вещам. Можно ска- зать, что каждый акт эстетизации чего-либо посредством дизайна всегда уже является кри- тикой объекта эстетизации, потому что этот акт привлекает внимание к потребности объ- екта в некоем дополнении, необходимом для того, чтобы он выглядел лучше, чем он есть на самом деле. Такое дополнение всегда функционирует как дерридианский «фармакон»: улуч- шая внешность какого-либо предмета, дизайн в то же время рождает у нас подозрение, что если эту дизайнерскую поверхность убрать, то предмет покажется особенно отвратительным и отталкивающим. Мы подозреваем, что за дизайном скрывается что-то ужасное – циничная манипуляция, политическая пропаганда, тайные интриги, чьи-то интересы и даже преступле-
ния. Таквот,авангардиранниймодернистскийдизайнвозниклиименноврезультатевосста- ния против традиции прикладных искусств, которая понималась как традиция эстетизации. Переход от традиционных прикладных искусств к модернистскому дизайну – как он описан, например, у Лооса – маркировал разрыв с традицией, радикальный парадигматический сдвиг. Авангардный дизайн стремился уничтожить и вычистить все, что скопилось на поверхности вещей за столетия существования прикладных искусств, чтобы предъявить взгляду истинную и не испорченную дизайном природу вещей. Соответственно, модернистский дизайн видел свою задачу не в том, чтобы формировать поверхность вещей, но скорее в том, чтобы уничтожать ее, то есть быть негативным дизайном, антидизайном. Настоящий модернистский дизайн является редукционистским; он занимается не прибавлением, а вычитанием. Речь больше не идет о про- стом оформлении отдельных вещей, предлагаемых взгляду зрителя и потребителя с целью его соблазнения. Скорее дизайн стремится придать форму самому зрительскому взгляду, чтобы зритель смог открыть для себя вещи, каковы они есть. Расцвет модернистского дизайна глу- бинно был связан с тем, что он был проектом дизайна нового человека – превращения вет- хого человека в нового. Этот проект возник в начале ХХ века и сегодня зачастую списывается со счетов как утопический, но de facto никто никогда от него не отказывался. В модифициро- ванном, коммерциализированном виде этот проект сохраняет свою влиятельность, и его изна- чальный утопический потенциал неоднократно находил себе применение в новых условиях. В крайнем своем проявлении модернистский дизайн – это дизайн субъекта. И единственный адекватный подход к проблемам дизайна состоит в том, чтобы обратить к субъекту вопрос: как он хочет себя подать, какую форму он хочет себе придать и каким он хочет предстать перед взглядом Другого.
У борьбы с прикладными искусствами, в которую вовлечен Лоос, несомненно есть мес- сианские, апокалипсические обертона. Так, например, Лоос писал: «Не плачьте. Разве вы не видите, что величие нашего века состоит в самой нашей неспособности создать новый орна- мент? Мы – по ту сторону орнамента, и мы достигли ясной, неприкрашенной простоты. Воз- зрите, время близко, и исполнение времен ждет нас. Скоро улицы городов воссияют, как белые стены! Подобно Сиону, Святому Граду, Небесной столице. И тогда исполнится все написан- ное». Таким образом, борьба с прикладными искусствами становится последней битвой перед наступлением Царства Божия на Земле. Лоос хотел низвести небеса на землю; он хотел видеть вещи такими, каковы они есть, без прикрас. Соответственно, Лоос хотел присвоить себе боже- ственный взгляд. Больше того – он хотел, чтобы каждый мог видеть вещи такими, каковы они есть и каковыми они открываются взгляду Бога. Модернистский дизайн стремится к «апока- липсису сегодня» – к апокалипсису, который снимет с вещей их покровы, очистит их от декора и даст нам увидеть их такими, каковы они есть на самом деле. Не понимая того, что дизайн претендует именно на выявление истины вещей, невозможно понять многие дискуссии, которые ведут на протяжении ХХ века дизайнеры, художники и теоретики искусства. Такие худож- ники и дизайнеры, как Дональд Джадд, или такие архитекторы, как Херцог & де Мерон – я называю лишь некоторых, – чтобы оправдать свои художественные практики, прибегают не к эстетической, а скорее к этической аргументации, то есть апеллируют к истине вещей как таковых. Модернистский архитектор или дизайнер не ждут конца света, чтобы очистить вещи от внешней шелухи и представить их людям такими, каковы они есть. Они хотят, чтобы апо- калипсическое видение появилось у каждого здесь и сейчас – и превратило каждого в Нового Человека. Тело принимает форму души. Душа становится телом. Все вещи становятся небес- ными. Небесное становится земным, материальным. Современность становится абсолютом.
Mодернистское производство искренности функционировало как редукция дизайна, и цель этой редукции состояла в создании пустого, вакуумного пространства посреди мира дизайна, в уничтожении дизайна, в использовании нулевого дизайна. Художественный аван- гард стремился к созданию зон, которые были бы свободны от дизайна и которые восприни- мались бы как зоны честности, высокой морали, искренности и доверия. Нулевой дизайн – это попытка искусственно создать для зрителя разрыв в плотной текстуре мира – зону прозрач- ности, которая позволит зрителю увидеть вещи такими, каковы они есть в действительности. В этом смысле требование редуцировать (а на самом деле – устранить) дизайн, сформулиро- ванное Лоосом, совершенно совпадает с требованием создавать вакуум, сформулированным Нувелем. В обоих случаях мы имеем дело со стремлением к честности и прозрачности – и того, на что мы обращаем свой взгляд, и нас самих, когда мы предстаем перед взглядом других.
Дизайн сегодня в основном понимается как способ эстетизации мира, товаров, челове- ческих тел, зданий и пр. А эстетизация, в свою очередь, в основном отождествляется с соблаз- нением и прославлением. Вальтер Беньямин, безусловно, подразумевал именно такое исполь- зование понятия «эстетизация», когда противопоставлял политизацию эстетики эстетизации политики в конце своего знаменитого эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости».
Здесь функция дизайна по-прежнему формулируется в терминах старого метафизиче- ского противопоставления внешности и сути. Дизайн, по Беньямину, ответствен только за внешний вид вещей и, следовательно, обречен на то, чтобы скрывать их сущность, обманы- вать взгляд зрителя – препятствовать пониманию истинной природы реальности. Соответ- ственно, дизайн последовательно понимался как манифестация власти вездесущего рынка, меновой стоимости, товарного фетишизма, общества спектакля – как создание соблазнитель- ной поверхности, за которой сами вещи не просто становятся незримыми, но исчезают вовсе. Но уже само это описание показывает, что дизайн – это не просто машина по декорированию вещей – скорее это машина по производству подозрения по отношению к вещам. Можно ска- зать, что каждый акт эстетизации чего-либо посредством дизайна всегда уже является кри- тикой объекта эстетизации, потому что этот акт привлекает внимание к потребности объ- екта в некоем дополнении, необходимом для того, чтобы он выглядел лучше, чем он есть на самом деле. Такое дополнение всегда функционирует как дерридианский «фармакон»: улуч- шая внешность какого-либо предмета, дизайн в то же время рождает у нас подозрение, что если эту дизайнерскую поверхность убрать, то предмет покажется особенно отвратительным и отталкивающим. Мы подозреваем, что за дизайном скрывается что-то ужасное – циничная манипуляция, политическая пропаганда, тайные интриги, чьи-то интересы и даже преступле-
ния. Таквот,авангардиранниймодернистскийдизайнвозниклиименноврезультатевосста- ния против традиции прикладных искусств, которая понималась как традиция эстетизации. Переход от традиционных прикладных искусств к модернистскому дизайну – как он описан, например, у Лооса – маркировал разрыв с традицией, радикальный парадигматический сдвиг. Авангардный дизайн стремился уничтожить и вычистить все, что скопилось на поверхности вещей за столетия существования прикладных искусств, чтобы предъявить взгляду истинную и не испорченную дизайном природу вещей. Соответственно, модернистский дизайн видел свою задачу не в том, чтобы формировать поверхность вещей, но скорее в том, чтобы уничтожать ее, то есть быть негативным дизайном, антидизайном. Настоящий модернистский дизайн является редукционистским; он занимается не прибавлением, а вычитанием. Речь больше не идет о про- стом оформлении отдельных вещей, предлагаемых взгляду зрителя и потребителя с целью его соблазнения. Скорее дизайн стремится придать форму самому зрительскому взгляду, чтобы зритель смог открыть для себя вещи, каковы они есть. Расцвет модернистского дизайна глу- бинно был связан с тем, что он был проектом дизайна нового человека – превращения вет- хого человека в нового. Этот проект возник в начале ХХ века и сегодня зачастую списывается со счетов как утопический, но de facto никто никогда от него не отказывался. В модифициро- ванном, коммерциализированном виде этот проект сохраняет свою влиятельность, и его изна- чальный утопический потенциал неоднократно находил себе применение в новых условиях. В крайнем своем проявлении модернистский дизайн – это дизайн субъекта. И единственный адекватный подход к проблемам дизайна состоит в том, чтобы обратить к субъекту вопрос: как он хочет себя подать, какую форму он хочет себе придать и каким он хочет предстать перед взглядом Другого.
Между тем с появлением Интернета экспансия медиа сделала требование самопрезента- ции и дизайнерского оформления себя самого еще более настоятельным и универсальным. Оно предъявляется уже не только элитам, как это было раньше – политикам, миллионерам, звездам и пр., – но всему населению. В конце ХХ – начале ХХI века самодизайн вступил в новую эпоху, а именно – эпоху массового производства. Сегодня сотни миллионов людей по всему миру создают себе двойников – аватары и персонажи, – которые служат публичными презентациями этих людей в Интернете. Современные средства визуального производства, такие как фото– и видеокамеры, сравнительно дешевы и распространены повсеместно. Современные социаль- ные сети, такие как Facebook, YouTube и Twitter, позволяют всему населению планеты делать свои фотографии, видео и тексты доступными в любой ее точке, – в обход контроля и цен- зуры со стороны традиционных институций. При этом современный дизайн позволяет людям оформлять свои квартиры и рабочие места как художественные инсталляции. А диета, фитнес и косметическая хирургия позволяют им моделировать свои тела как художественные объекты. Соответственно, может показаться, что сегодня исполняется утопическое обещание, данное Йозефом Бойсом в 1960-е годы: художником – то есть творцом своего публичного образа – станет каждый. Однако на деле эта осуществившаяся утопия все больше переживается нами как радикальная антиутопия. На то есть одна очевидная причина: утопия всегда оборачива- ется антиутопией, как только права, за которые мы боролись, превращаются в обязанности. В самом деле, сегодня мы живем в режиме принуждения к дизайнерской работе над самим собой, принуждения к самодизайну. У нас не только есть право создавать художественными средствами свои публичные персонажи – это наша обязанность. Если мы ее не выполняем, то общество нас за это наказывает. Соответственно, свобода, завоеванная в борьбе за демократи- зацию эстетических прав, обернулась повсеместным террором эстетического долга и обязан- ности. Этот переход от эстетической утопии к эстетической антиутопии, полагаю, очевиден более или менее каждому. Поэтому я не буду на этом задерживаться.
Более важной мне представляется другая проблема: кто в состоянии обозреть и сопоста- вить миллионы видео, фотографий и текстов, которые циркулируют в современных инфор- мационных сетях? Кто является созерцателем, зрителем всех этих образов и доморощенных публичных персонажей? Таким зрителем может быть только Бог – но ему, как известно, не нужно просматривать весь этот визуальный материал, чтобы увидеть наши незримые для дру- гих смертных души, скрытые за этими образами. Соответственно, если мы хотим продолжать разговор об эстетизации жизни, то мы должны помнить, что адресатом этой эстетизации явля- ется некий отсутствующий, неизвестный, скрытый субъект эстетического созерцания. Или, может быть, подвижные множества интернет-пользователей.
Однако, с другой стороны, мы склонны предполагать, что, пока мы занимаемся созда- нием своих виртуальных тел, наши материальные, реальные тела находятся под наблюдением и подвергаются анализу. (Вспомним «Матрицу» или совсем недавний фильм «Начало».) Совре- менные средства коммуникации (камеры видеонаблюдения и пр.) позволяют другим видеть наши тела и следить за их перемещениями, игнорируя те виртуальные тела, которые мы пред- лагаем им для созерцания. Можно сказать, что мы живем в мире, где мой взгляд уже не встре- чается с взглядом Другого. Раньше они встречались, проходя сквозь стены прозрачных архи- тектурных сооружений. Прозрачность этой архитектуры работала в обе стороны: я смотрел, как на меня смотрят другие. (Подобно тому, как за нами наблюдают рыбы в аквариуме.) Но, как довольно рано (в 1965 году) заметил Бакминстер Фуллер, при современном развитии медиа 99 % своих действий мы совершаем, не имея над ними непосредственного визуального кон- троля. Когда мы открываемся миру, то используем для этого каналы, которые от наших глаз скрыты. Точно так же видят нас и другие – то есть используют для этого каналы, которые находятся за пределами визуального контроля, – а это означает, что для современного субъ- екта взгляд другого остается неидентифицируемым. Его конституирует только некое допуще- ние, подозрение. Иными словами: сегодня публичное пространство является для нас простран- ством параноидальным (см. «Параноид-парк» Гаса Ван Сента, 2007). И мы можем реагировать на это публичное / параноидальное пространство только в режиме постоянной тревоги.
Соответственно, в мире тотального дизайна только катастрофа, чрезвычайное положе- ние, насильственный разрыв в поверхности дизайна являются для нас удовлетворительной причиной, чтобы поверить, что мы смогли увидеть реальность, которая за этим дизайном кро- ется. С тех пор как Бог умер, теория заговора остается единственной жизнеспособной формой традиционной метафизики, то есть дискурса о сокрытом и невидимом. Там, где раньше были природа и Бог, сегодня находятся дизайн и теория заговора.
Хотя в целом мы склонны не доверять медиа, мы готовы поверить им сразу, как только они приносят нам сообщение о финансовом кризисе или доставляют нам на дом кадры с собы- тиями 11 сентября, – и это не случайно. При виде фотографий и видео, снятых 11 сентября, даже самые убежденные теоретики постмодернистской симуляции начали говорить о возвра- щении реального. В западном искусстве есть давняя традиция представлять художника как ходячую катастрофу, и современные художники (начиная, по меньшей мере, с Бодлера) научи- лись производить образы зла, таящегося под поверхностью мира, которые мгновенно завоевы- вают доверие публики. В наши дни на смену романтическому образу poète maudit пришел образ откровенного циника – алчного манипулятора, дельца, которого интересует только материаль- ная выгода и который использует искусство как машину для обмана аудитории. Мы познако- мились с этой стратегией расчетливого самооговора – как разновидности самодизайна – на примерах Сальвадора Дали и Энди Уорхола, Джеффа Кунса и Дэмиана Херста. Хотя эта стра- тегия и не нова, она редко бьет мимо цели. По поводу публичного имиджа этих художников мы склонны думать «Какой ужас!», но в то же время – «Сколько здесь правды!». Самооговор как разновидность самодизайна сохраняет свою действенность, между тем как нулевой аван- гардистский дизайн искренности уже не работает. На самом деле здесь современное искусство демонстрирует, как работает вся наша культура «селебрити», – вскрывает механику расчетли- вого разоблачения и саморазоблачения. «Селебрити» (включая политиков) предстают перед современной аудиторией как дизайнерские поверхности, на которые публика реагирует подо- зрением и теорией заговора. Соответственно, чтобы политик вызывал доверие, нужен момент разоблачения – возможность проникнуть через поверхность, чтобы сказать: «Ну вот, эта меди- азвезда (или этот политик) действительно оказался негодяем – как я всегда и думал». Это разоблачение позволяет восстановить доверие к системе через ритуал символического жерт- воприношения и самопожертвования; стабилизировать систему «селебрити», подтвердив то подозрение, под которым она заведомо и неизбежно находится. Согласно экономике симво- лического обмена, которую исследовали Марсель Мосс и Жорж Батай, тот, кто показал себя особенно негативным образом (то есть тот, кто принес наиболее значительную символическую жертву), получает наибольшие признание и славу. Уже один этот факт показывает, что вся эта ситуация имеет отношение не столько к истинному прозрению, сколько к особому случаю самодизайна: если сегодня кто-то решает плохо показать себя с этической точки зрения, то, в логике самодизайна, он принимает наилучшее решение.
Соответственно, руссоистская вера в тождество искренности и нулевого дизайна в наше время становится все слабее. Мы уже не готовы верить, что минималистский дизайн каким- то образом свидетельствует о честности и искренности субъекта. Авангардистский дизайн честности стал, таким образом, просто одним из многих возможных стилей. Но редукцио- низм авангарда как означающее аутентичности потерял свою привлекательность и в другом, не менее важном отношении. Сегодня медиа во многом руководствуются политикой идентичности. А именно: медиа фиксируют свой взгляд не на универсальном, редуцированном и минималистском, а на культурных идентичностях, традиционных верованиях и региональ- ных кодах. Универсальность медиа пришла на смену универсальности авангарда, а универ- сальность модернистской редукции сменилась требованием признать в качестве означаю- щего аутентичности культурное многообразие и локальные традиции. (В этом смысле нулевой дизайн начинает, в свою очередь, восприниматься как сокрытие региональных идентичностей – как нейтральная корпоративная архитектура.) Требования медиа в сочетании с туристиче- ским спросом на культурные различия производят то, что мы часто определяем как постмо- дернизм, то есть ироничную игру с взглядом туриста.
Соответственно, сегодня все мы – архитекторы, художники, дизайнеры и теоретики – являемся наследниками определенных культурных традиций и в то же время наследниками модернистского восстания против этих традиций. Мы подчиняемся требованию аутентично- сти, но это требование отбрасывает нас назад и к традиции, и к восстанию против этой тради- ции в равной мере. Это в высшей степени парадоксальная ситуация.
Когда кто-то задается целью продолжать революцию, всегда получается парадокс. Это касается и политической революции, и художественной тоже. Что это значит – продолжать революцию? Делать новую революцию? Но это была бы контрреволюция, это значило бы отри- цать результаты революции. Или, может быть, продолжать революцию – значит стабилизиро- вать ее результаты? Но это было бы предательством по отношению к духу революции, возвра- том к предреволюционной политике закона и порядка. Соответственно, любое продолжение революции означает ее предательство.
Возврат к архитектурной традиции может быть понят как восстание против модернист- ской традиции. Но такой возврат может быть интерпретирован и как продолжение модернист- ской традиции восстания – как это происходит в случае так называемого постмодернистского искусства и архитектуры. Все, что выглядит хорошо, может быть сочтено плохим по сути – плохим именно потому, что оно хорошо выглядит, и это наводит на мысль, что оно сделано только для того, чтобы удовлетворить господствующему вкусу и вписаться в уже существую- щие культурные условия. А все, что выглядит плохо, можно счесть плохим и по сути тоже: или потому что оно просто, ненамеренно плохо – и в этом нет никакой стратегии; или потому что оно плохо, и в этом есть стратегия, а следовательно, мы имеем дело с дешевым приспо- соблением к традиции антиэстетики. Успешность подозрительна, потому что успех является формой коммерциализации. Но неуспешность тоже не поможет вам набрать очки.
Когда критерии эстетического суждения становятся парадоксальными и, в дополнение к этому, постоянно подвергаются переоценке в рамках переоценки всех ценностей, кажется, что у субъекта появляется свобода делать все, что он захочет. Это ощущение точно сформу- лировано в известной фразе: сойдет все, что ни сделай (everything goes). Однако в действи- тельности мы скорее ощущаем себя в ситуации, где невозможно вообще ничего. А именно: мы находимся под парадоксальным двойным подозрением – и оказываемся связаны взаимоис- ключающими требованиями. И тут возникает вопрос: почему некоторым художникам, дизай- нерам или архитекторам тем не менее удается изобретать некие индивидуальные стратегии, которые оказываются эффективными? Ответ: именно потому, что эти стратегии в высшей сте- пени индивидуальны. Отсутствие социального консенсуса относительно вкуса означает, что любую культурную деятельность можно осуществлять только на собственный страх и риск, и в каждом индивидуальном случае это именно так и происходит. Современный художник, архитектор и теоретик похожи на ницшеанского канатоходца. Единственным критерием их успеха является их способность на протяжении определенного времени танцевать на канате под взглядом публики.
13
Об авторе
Борис Гройс – философ, теоретик искусства, профессор Государственной высшей школы дизайна в Карлсруэ и Нью-Йоркского университета. Автор многих книг, включая «Стиль Сталин» (1988), «О новом» (1992), «Изобретение России» (1995), «Под подозрением: феноменология медиа» (2000), «Топология искусства» (2003), «Введение в антифилософию» (2009).
Более важной мне представляется другая проблема: кто в состоянии обозреть и сопоста- вить миллионы видео, фотографий и текстов, которые циркулируют в современных инфор- мационных сетях? Кто является созерцателем, зрителем всех этих образов и доморощенных публичных персонажей? Таким зрителем может быть только Бог – но ему, как известно, не нужно просматривать весь этот визуальный материал, чтобы увидеть наши незримые для дру- гих смертных души, скрытые за этими образами. Соответственно, если мы хотим продолжать разговор об эстетизации жизни, то мы должны помнить, что адресатом этой эстетизации явля- ется некий отсутствующий, неизвестный, скрытый субъект эстетического созерцания. Или, может быть, подвижные множества интернет-пользователей.
Однако, с другой стороны, мы склонны предполагать, что, пока мы занимаемся созда- нием своих виртуальных тел, наши материальные, реальные тела находятся под наблюдением и подвергаются анализу. (Вспомним «Матрицу» или совсем недавний фильм «Начало».) Совре- менные средства коммуникации (камеры видеонаблюдения и пр.) позволяют другим видеть наши тела и следить за их перемещениями, игнорируя те виртуальные тела, которые мы пред- лагаем им для созерцания. Можно сказать, что мы живем в мире, где мой взгляд уже не встре- чается с взглядом Другого. Раньше они встречались, проходя сквозь стены прозрачных архи- тектурных сооружений. Прозрачность этой архитектуры работала в обе стороны: я смотрел, как на меня смотрят другие. (Подобно тому, как за нами наблюдают рыбы в аквариуме.) Но, как довольно рано (в 1965 году) заметил Бакминстер Фуллер, при современном развитии медиа 99 % своих действий мы совершаем, не имея над ними непосредственного визуального кон- троля. Когда мы открываемся миру, то используем для этого каналы, которые от наших глаз скрыты. Точно так же видят нас и другие – то есть используют для этого каналы, которые находятся за пределами визуального контроля, – а это означает, что для современного субъ- екта взгляд другого остается неидентифицируемым. Его конституирует только некое допуще- ние, подозрение. Иными словами: сегодня публичное пространство является для нас простран- ством параноидальным (см. «Параноид-парк» Гаса Ван Сента, 2007). И мы можем реагировать на это публичное / параноидальное пространство только в режиме постоянной тревоги.
Соответственно, в мире тотального дизайна только катастрофа, чрезвычайное положе- ние, насильственный разрыв в поверхности дизайна являются для нас удовлетворительной причиной, чтобы поверить, что мы смогли увидеть реальность, которая за этим дизайном кро- ется. С тех пор как Бог умер, теория заговора остается единственной жизнеспособной формой традиционной метафизики, то есть дискурса о сокрытом и невидимом. Там, где раньше были природа и Бог, сегодня находятся дизайн и теория заговора.
Хотя в целом мы склонны не доверять медиа, мы готовы поверить им сразу, как только они приносят нам сообщение о финансовом кризисе или доставляют нам на дом кадры с собы- тиями 11 сентября, – и это не случайно. При виде фотографий и видео, снятых 11 сентября, даже самые убежденные теоретики постмодернистской симуляции начали говорить о возвра- щении реального. В западном искусстве есть давняя традиция представлять художника как ходячую катастрофу, и современные художники (начиная, по меньшей мере, с Бодлера) научи- лись производить образы зла, таящегося под поверхностью мира, которые мгновенно завоевы- вают доверие публики. В наши дни на смену романтическому образу poète maudit пришел образ откровенного циника – алчного манипулятора, дельца, которого интересует только материаль- ная выгода и который использует искусство как машину для обмана аудитории. Мы познако- мились с этой стратегией расчетливого самооговора – как разновидности самодизайна – на примерах Сальвадора Дали и Энди Уорхола, Джеффа Кунса и Дэмиана Херста. Хотя эта стра- тегия и не нова, она редко бьет мимо цели. По поводу публичного имиджа этих художников мы склонны думать «Какой ужас!», но в то же время – «Сколько здесь правды!». Самооговор как разновидность самодизайна сохраняет свою действенность, между тем как нулевой аван- гардистский дизайн искренности уже не работает. На самом деле здесь современное искусство демонстрирует, как работает вся наша культура «селебрити», – вскрывает механику расчетли- вого разоблачения и саморазоблачения. «Селебрити» (включая политиков) предстают перед современной аудиторией как дизайнерские поверхности, на которые публика реагирует подо- зрением и теорией заговора. Соответственно, чтобы политик вызывал доверие, нужен момент разоблачения – возможность проникнуть через поверхность, чтобы сказать: «Ну вот, эта меди- азвезда (или этот политик) действительно оказался негодяем – как я всегда и думал». Это разоблачение позволяет восстановить доверие к системе через ритуал символического жерт- воприношения и самопожертвования; стабилизировать систему «селебрити», подтвердив то подозрение, под которым она заведомо и неизбежно находится. Согласно экономике симво- лического обмена, которую исследовали Марсель Мосс и Жорж Батай, тот, кто показал себя особенно негативным образом (то есть тот, кто принес наиболее значительную символическую жертву), получает наибольшие признание и славу. Уже один этот факт показывает, что вся эта ситуация имеет отношение не столько к истинному прозрению, сколько к особому случаю самодизайна: если сегодня кто-то решает плохо показать себя с этической точки зрения, то, в логике самодизайна, он принимает наилучшее решение.
Соответственно, руссоистская вера в тождество искренности и нулевого дизайна в наше время становится все слабее. Мы уже не готовы верить, что минималистский дизайн каким- то образом свидетельствует о честности и искренности субъекта. Авангардистский дизайн честности стал, таким образом, просто одним из многих возможных стилей. Но редукцио- низм авангарда как означающее аутентичности потерял свою привлекательность и в другом, не менее важном отношении. Сегодня медиа во многом руководствуются политикой идентичности. А именно: медиа фиксируют свой взгляд не на универсальном, редуцированном и минималистском, а на культурных идентичностях, традиционных верованиях и региональ- ных кодах. Универсальность медиа пришла на смену универсальности авангарда, а универ- сальность модернистской редукции сменилась требованием признать в качестве означаю- щего аутентичности культурное многообразие и локальные традиции. (В этом смысле нулевой дизайн начинает, в свою очередь, восприниматься как сокрытие региональных идентичностей – как нейтральная корпоративная архитектура.) Требования медиа в сочетании с туристиче- ским спросом на культурные различия производят то, что мы часто определяем как постмо- дернизм, то есть ироничную игру с взглядом туриста.
Соответственно, сегодня все мы – архитекторы, художники, дизайнеры и теоретики – являемся наследниками определенных культурных традиций и в то же время наследниками модернистского восстания против этих традиций. Мы подчиняемся требованию аутентично- сти, но это требование отбрасывает нас назад и к традиции, и к восстанию против этой тради- ции в равной мере. Это в высшей степени парадоксальная ситуация.
Когда кто-то задается целью продолжать революцию, всегда получается парадокс. Это касается и политической революции, и художественной тоже. Что это значит – продолжать революцию? Делать новую революцию? Но это была бы контрреволюция, это значило бы отри- цать результаты революции. Или, может быть, продолжать революцию – значит стабилизиро- вать ее результаты? Но это было бы предательством по отношению к духу революции, возвра- том к предреволюционной политике закона и порядка. Соответственно, любое продолжение революции означает ее предательство.
Возврат к архитектурной традиции может быть понят как восстание против модернист- ской традиции. Но такой возврат может быть интерпретирован и как продолжение модернист- ской традиции восстания – как это происходит в случае так называемого постмодернистского искусства и архитектуры. Все, что выглядит хорошо, может быть сочтено плохим по сути – плохим именно потому, что оно хорошо выглядит, и это наводит на мысль, что оно сделано только для того, чтобы удовлетворить господствующему вкусу и вписаться в уже существую- щие культурные условия. А все, что выглядит плохо, можно счесть плохим и по сути тоже: или потому что оно просто, ненамеренно плохо – и в этом нет никакой стратегии; или потому что оно плохо, и в этом есть стратегия, а следовательно, мы имеем дело с дешевым приспо- соблением к традиции антиэстетики. Успешность подозрительна, потому что успех является формой коммерциализации. Но неуспешность тоже не поможет вам набрать очки.
Когда критерии эстетического суждения становятся парадоксальными и, в дополнение к этому, постоянно подвергаются переоценке в рамках переоценки всех ценностей, кажется, что у субъекта появляется свобода делать все, что он захочет. Это ощущение точно сформу- лировано в известной фразе: сойдет все, что ни сделай (everything goes). Однако в действи- тельности мы скорее ощущаем себя в ситуации, где невозможно вообще ничего. А именно: мы находимся под парадоксальным двойным подозрением – и оказываемся связаны взаимоис- ключающими требованиями. И тут возникает вопрос: почему некоторым художникам, дизай- нерам или архитекторам тем не менее удается изобретать некие индивидуальные стратегии, которые оказываются эффективными? Ответ: именно потому, что эти стратегии в высшей сте- пени индивидуальны. Отсутствие социального консенсуса относительно вкуса означает, что любую культурную деятельность можно осуществлять только на собственный страх и риск, и в каждом индивидуальном случае это именно так и происходит. Современный художник, архитектор и теоретик похожи на ницшеанского канатоходца. Единственным критерием их успеха является их способность на протяжении определенного времени танцевать на канате под взглядом публики.
13
Об авторе
Борис Гройс – философ, теоретик искусства, профессор Государственной высшей школы дизайна в Карлсруэ и Нью-Йоркского университета. Автор многих книг, включая «Стиль Сталин» (1988), «О новом» (1992), «Изобретение России» (1995), «Под подозрением: феноменология медиа» (2000), «Топология искусства» (2003), «Введение в антифилософию» (2009).
Тристан Гарсия
Не жест и не произведение: выставка как предрасположение к явлению
Что является и что выставляется
Возможно, существуют культуры откровения (révélation) и культуры выставления (exposition), или, скорее, так: возможно, одна часть любой культуры основана на откровении (révélation), а другая — на выставлении (exposition).
Под «откровением» (révélation) мы будем понимать внезапное явление субъекту некой идеи или реальности, некоего непосредственного присутствия. Такое явление вещи или объекта (языкового содержания, например, божественной заповеди, пророческого образа или чистого наличествующего ощущения) выдает себя за нечто непосредственное, лишенное посредников, естественное и спонтанное.
Под «выставлением» (exposition), в самом широком смысле этого слова, мы можем понимать любое длительное, сконструирован- ное, опосредованное явление идеи (математической теоремы), присутствия или наличия (останков мертвого животного) или репрезентации (рисунка на стене). То, что выставлено, тоже является, но, в отличие от откровения (révélation), оно подает себя так, будто было подготовлено, организовано и специально устроено для того, чтобы предстать перед нами. А это предполагает набор средств, которые как приближают нас к явившейся вещи, так и отдаляют от нее: нас подводят к ней с помощью тех или иных приемов (определенного маршрута перемещения, игры света, контраста, экспозиционной драматургии) и с помощью тех же приемов заставляют сомневаться в ее явленности (нами манипулируют; все устроено так, чтобы мы увидели то, что увидели). С точки зрения средств то, что вы- ставляется (exposé), выигрывает в честности по сравнению с тем, что является (révélé), но проигрывает в интенсивности с точки зрения целей: то, что выставляется (exposé), достовернее того, что является (révélé), но верим мы в это не столь сильно.
Однако необходимо серьезно относиться к возможности выставления — как к одной из возможностей жизни вообще и человече- ского рода в частности, который постоянно работает с откровением (révélation), и против него. Без возможности быть выставленными (exposer) откровения (révélations) — которые слишком редки, кратковременны, индивиду- альны, мощны, но при этом сомнительны — никогда не смогли бы найти путь к людям; чтобы что-то явить (в религиозном, худо- жественном или научном смысле), рано или поздно мы должны решиться это предъявить, выставить напоказ, то есть мы должны согла- ситься создать возможность для коллективно- го явления (apparition) перед глазами других.
Выставить, чтобы организовать явление
Если в порядке гипотезы согласиться с существованием этих двух основных путей предъявления чего-либо в культурах — откро- вения (révélation) и выставления (exposition) — то под выставлением будет подразумеваться все то, что обеспечивает субъектам явление им вещей. Эти вещи могут быть абстрактны- ми, как в математическом доказательстве, ко- торое представляет собой набор процедур, позволяющих обеспечить явление истины, или конкретными, что нас, собственно, здесь и интересует. Представим себе упорядоченное явление — в ограниченных, иногда ритуализованных пространстве и времени — неких присутствий (минералов, растений, тел, артефактов) или репрезентаций (изображений, текстов, звуков), расставленных так, чтобы зрители могли их воспринимать, видеть, читать, слышать, а иногда и трогать.
Что бы ни утверждало религиозное, мистическое или эстетическое откровение, претендующее на интуитивное, спонтанное и непосредственное явление сознанию — а оно может быть именем Бога, видением Абсолюта, как и любовным чувством, обнажен- ной красотой момента, чистым присутствием вещей, общим порядком реальности — выставка (exposition) доносит это до зритель- ного и интеллектуального восприятия субъектов, готовых эту рационализированную видимость воспринять, с помощью набора средств, не являющихся ни скрытыми, ни не- посредственно очевидными — постаментов, рам, витрин, подвесных систем для картин, освещения и т.д.
Выставку во всех исторических трансформациях мест и способов ее проведения — от кунсткамеры как пространства аналогическо- го (analogique) до белого куба как пространства обобщенного (générique) — легко представить как трансцендентальную концепцию социально организованного явления вещей. Только определить ее — задача непростая.
Не жест и не произведение: выставка как предрасположение к явлению
Что является и что выставляется
Возможно, существуют культуры откровения (révélation) и культуры выставления (exposition), или, скорее, так: возможно, одна часть любой культуры основана на откровении (révélation), а другая — на выставлении (exposition).
Под «откровением» (révélation) мы будем понимать внезапное явление субъекту некой идеи или реальности, некоего непосредственного присутствия. Такое явление вещи или объекта (языкового содержания, например, божественной заповеди, пророческого образа или чистого наличествующего ощущения) выдает себя за нечто непосредственное, лишенное посредников, естественное и спонтанное.
Под «выставлением» (exposition), в самом широком смысле этого слова, мы можем понимать любое длительное, сконструирован- ное, опосредованное явление идеи (математической теоремы), присутствия или наличия (останков мертвого животного) или репрезентации (рисунка на стене). То, что выставлено, тоже является, но, в отличие от откровения (révélation), оно подает себя так, будто было подготовлено, организовано и специально устроено для того, чтобы предстать перед нами. А это предполагает набор средств, которые как приближают нас к явившейся вещи, так и отдаляют от нее: нас подводят к ней с помощью тех или иных приемов (определенного маршрута перемещения, игры света, контраста, экспозиционной драматургии) и с помощью тех же приемов заставляют сомневаться в ее явленности (нами манипулируют; все устроено так, чтобы мы увидели то, что увидели). С точки зрения средств то, что вы- ставляется (exposé), выигрывает в честности по сравнению с тем, что является (révélé), но проигрывает в интенсивности с точки зрения целей: то, что выставляется (exposé), достовернее того, что является (révélé), но верим мы в это не столь сильно.
Однако необходимо серьезно относиться к возможности выставления — как к одной из возможностей жизни вообще и человече- ского рода в частности, который постоянно работает с откровением (révélation), и против него. Без возможности быть выставленными (exposer) откровения (révélations) — которые слишком редки, кратковременны, индивиду- альны, мощны, но при этом сомнительны — никогда не смогли бы найти путь к людям; чтобы что-то явить (в религиозном, худо- жественном или научном смысле), рано или поздно мы должны решиться это предъявить, выставить напоказ, то есть мы должны согла- ситься создать возможность для коллективно- го явления (apparition) перед глазами других.
Выставить, чтобы организовать явление
Если в порядке гипотезы согласиться с существованием этих двух основных путей предъявления чего-либо в культурах — откро- вения (révélation) и выставления (exposition) — то под выставлением будет подразумеваться все то, что обеспечивает субъектам явление им вещей. Эти вещи могут быть абстрактны- ми, как в математическом доказательстве, ко- торое представляет собой набор процедур, позволяющих обеспечить явление истины, или конкретными, что нас, собственно, здесь и интересует. Представим себе упорядоченное явление — в ограниченных, иногда ритуализованных пространстве и времени — неких присутствий (минералов, растений, тел, артефактов) или репрезентаций (изображений, текстов, звуков), расставленных так, чтобы зрители могли их воспринимать, видеть, читать, слышать, а иногда и трогать.
Что бы ни утверждало религиозное, мистическое или эстетическое откровение, претендующее на интуитивное, спонтанное и непосредственное явление сознанию — а оно может быть именем Бога, видением Абсолюта, как и любовным чувством, обнажен- ной красотой момента, чистым присутствием вещей, общим порядком реальности — выставка (exposition) доносит это до зритель- ного и интеллектуального восприятия субъектов, готовых эту рационализированную видимость воспринять, с помощью набора средств, не являющихся ни скрытыми, ни не- посредственно очевидными — постаментов, рам, витрин, подвесных систем для картин, освещения и т.д.
Выставку во всех исторических трансформациях мест и способов ее проведения — от кунсткамеры как пространства аналогическо- го (analogique) до белого куба как пространства обобщенного (générique) — легко представить как трансцендентальную концепцию социально организованного явления вещей. Только определить ее — задача непростая.
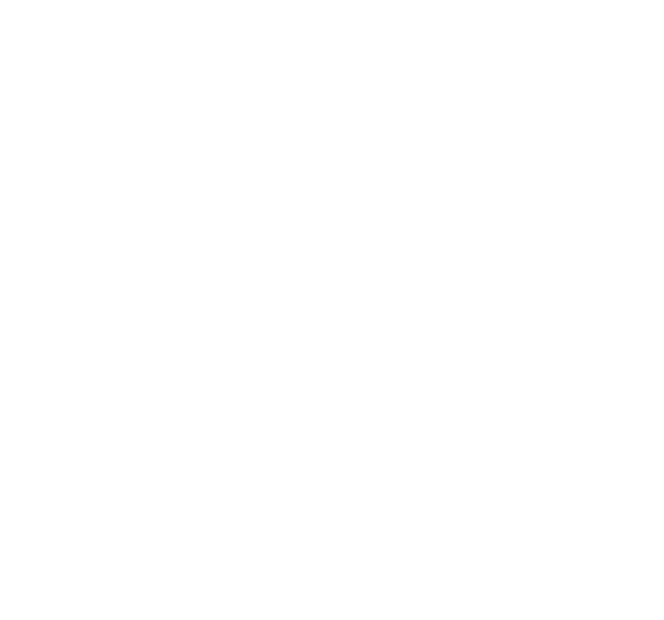
Выставлять не значит показывать
Возможно, выставку лучше всего определять от противного, тщательно отделяя ее от двух других тесно связанных с ней понятий. Оправданным будет провести различие между актом выставления (exposer) и актом репрезен- тации (représenter) или показа (montrer).
Многие антропологические объяснения жеста, часто восходящие к работам Кондильяка и Руссо, подчеркивали непосредственность жеста, в отличие от артикуляции речи. На стыке природы и культуры жест представляется наиболее спонтанным выражением сознательного и мотивированного живого существа, проецирующего себя на что-то, указывающего на это рукой, подбородком или простым восклицанием, пытающегося таким образом обратить внимание на присутствие чего-то отличного от себя, а также представить другим фрагмент окружающей среды, часть ландшафта, движущееся животное, источник звука, причину для беспокойства, хищника или, наоборот, добычу.
Избегая воспроизведения этого широко критикуемого описания жеста как непосредственного выражения, мы можем просто определить его здесь как усилие сделать себя присутствующим и сделать присутствующим то, что уже присутствует. И в самом деле, любой жест предполагает игру на двойном ощущении присутствия: с одной стороны, присутствия объективного, присутствия чего-либо (дерева вдалеке, на которое я указываю), а с другой — присутствия субъективного, присутствия в чем-либо (в восприятии, в сознании, которое направляет себя и внимание других на дерево). Первое дискретно: либо дерево есть, либо его нет; второе непрерывно, интенсивно: субъективность может сделать себя более или менее присутствующей в чем-то, потому что ее внимание всегда может усиливаться или снижаться.
Это понимание жеста как двойного присутствия, возвращаясь к рассматриваемому вопросу, обязывает нас различать действие показывания (montrer) и действие выставления напоказ (exposer): «выставляя» горку камней, куски туши животного, сметенные в кучку кости или любой другой предмет, оставленный в качестве свидетельства, я, по сути, претендую на то, чтобы показать нечто, что переживет мой жест. Таинственным об- разом я добиваюсь того, чтобы вещь про- должала показывать себя и после того, как я уйду. Чтобы что-то показать, я должен присут- ствовать, но чтобы что-то выставить, я могу — и даже в определенный момент должен — исчезнуть, стать отсутствующим.
Таким образом, в самом фундаментальном антропологическом смысле выставление че- го-либо заключается в производстве жеста, который подразумевает исчезновение пока- зывающего. Конечно, такой «маневр» пред- полагает, чтобы сначала там был некто пока- зывающий, но одновременно — чтобы этого кого-то там больше не было: то, что было по- казано, теперь показывает само себя. То, что выставляется, — это не то, что показывают, а то, что показывает само себя, потому что оно было тщательно продумано и организовано для внимания аудитории, таким образом, для того, чтобы оно являло себя, его больше не нужно показывать.
Именно это отделяет выставку, акт выстав- ления чего-либо, от жеста и делает ее похо- жей на репрезентацию.
Возможно, выставку лучше всего определять от противного, тщательно отделяя ее от двух других тесно связанных с ней понятий. Оправданным будет провести различие между актом выставления (exposer) и актом репрезен- тации (représenter) или показа (montrer).
Многие антропологические объяснения жеста, часто восходящие к работам Кондильяка и Руссо, подчеркивали непосредственность жеста, в отличие от артикуляции речи. На стыке природы и культуры жест представляется наиболее спонтанным выражением сознательного и мотивированного живого существа, проецирующего себя на что-то, указывающего на это рукой, подбородком или простым восклицанием, пытающегося таким образом обратить внимание на присутствие чего-то отличного от себя, а также представить другим фрагмент окружающей среды, часть ландшафта, движущееся животное, источник звука, причину для беспокойства, хищника или, наоборот, добычу.
Избегая воспроизведения этого широко критикуемого описания жеста как непосредственного выражения, мы можем просто определить его здесь как усилие сделать себя присутствующим и сделать присутствующим то, что уже присутствует. И в самом деле, любой жест предполагает игру на двойном ощущении присутствия: с одной стороны, присутствия объективного, присутствия чего-либо (дерева вдалеке, на которое я указываю), а с другой — присутствия субъективного, присутствия в чем-либо (в восприятии, в сознании, которое направляет себя и внимание других на дерево). Первое дискретно: либо дерево есть, либо его нет; второе непрерывно, интенсивно: субъективность может сделать себя более или менее присутствующей в чем-то, потому что ее внимание всегда может усиливаться или снижаться.
Это понимание жеста как двойного присутствия, возвращаясь к рассматриваемому вопросу, обязывает нас различать действие показывания (montrer) и действие выставления напоказ (exposer): «выставляя» горку камней, куски туши животного, сметенные в кучку кости или любой другой предмет, оставленный в качестве свидетельства, я, по сути, претендую на то, чтобы показать нечто, что переживет мой жест. Таинственным об- разом я добиваюсь того, чтобы вещь про- должала показывать себя и после того, как я уйду. Чтобы что-то показать, я должен присут- ствовать, но чтобы что-то выставить, я могу — и даже в определенный момент должен — исчезнуть, стать отсутствующим.
Таким образом, в самом фундаментальном антропологическом смысле выставление че- го-либо заключается в производстве жеста, который подразумевает исчезновение пока- зывающего. Конечно, такой «маневр» пред- полагает, чтобы сначала там был некто пока- зывающий, но одновременно — чтобы этого кого-то там больше не было: то, что было по- казано, теперь показывает само себя. То, что выставляется, — это не то, что показывают, а то, что показывает само себя, потому что оно было тщательно продумано и организовано для внимания аудитории, таким образом, для того, чтобы оно являло себя, его больше не нужно показывать.
Именно это отделяет выставку, акт выстав- ления чего-либо, от жеста и делает ее похо- жей на репрезентацию.

Выставлять — не то же самое, что репрезентировать
Заманчиво расценить выставку жанром репрезентации. Как и любой образ, то, что выставлено, обозначает нечто, в то время как человека, который хотел обозначить это нечто, уже нет на месте, чтобы указать на него пальцем. А если предположить, что у репре- зентации вообще существовала модель в ре- альном мире, то картина переживет модель и художника, аналогично и выставка существует и в отсутствие человека, который ее задумал. Значит ли это, что выставку образов следует считать образом, подобным другим образам, а выставку знаков — значением (signification), подобным другим значениям?
Если да, то мы путаем порядки и совершаем ошибку, симметричную предыдущей (отождествлению жеста с выставкой).
Если репрезентация, например, неподвижное изображение — живописное или фотографическое — делает нечто присутствующее отсутствующим (в данном случае речь идет о пространственном измерении, поскольку оно превращает трехмерное из- мерение в квазидвухмерное) с тем, чтобы это отсутствующее представить (ландшафт, лицо, силуэт, возможно, абстрактную форму или даже идеальность)8, то выставка никог- да не представляет нам ничего, кроме того, что уже существует. Выставлять, как и пока- зывать, — значит делать присутствующим то, что уже есть: природные образцы, артефакты, тела, движения, конфигурации и, возможно, образы...
Конечно, можно выставлять репрезента- ции, и именно это обычно и происходит в ху- дожественных музеях и галереях, только вот ошибочным будет вообразить, отдавшись своего рода метахудожественной иллюзии, что в этом случае мы репрезентируем репре- зентации, создаем произведение из произве- дений. Нет, напротив, выставка представляет как тела, так и образы, а иногда и тексты, и идеи — в их полновесной материальности, в их неоспоримой наличности. Или, если ска- зать точнее — выставка дает возможность присутствия репрезентациям, ускользающим в идеальность, скрывающим то, что есть, чтобы указать на то, чего нет. С этой точки зрения, выставлять — значит возвращать к своему первоначальному присутствию объ- екты, которые стремятся сделать отсутству- ющим что-то из своего hic et nunc (здесь и сейчас). Выставляющий произведение художника должен каким-то образом, с той или иной степенью деликатности, разобрать, «распаковать» это произведение, чтобы дать ему возможность лучше проявиться. По этой причине выставка, даже поставленная на службу репрезентациям, показывая их — ра- ботает и против них, потому что она никогда не обозначает ничего, чего нет конкретно здесь, в данном пространстве и времени.
И именно это отдаляет выставку от понятия репрезентации, но приближает к понятию жеста.
Не показывать и не репрезентировать, а предрасполагать для явления
Суммируем сказанное: показ (жест) есть направленное отношение между присутствую- щим субъектом и присутствующим объектом; репрезентация (изображение, текст, музыка) есть направленное отношение между присут- ствующим объектом (цветами и формами, фо- немами или знаками, частотами или ритмами) и объектом отсутствующим (фигурой, силуэтом, реальной или воображаемой сценой, кото- рую мы описываем, чувством, которое вы- зываем). Между ними — то, что мы называем «выставкой», «экспозицией»: направленное отношение между субъектом, готовым к соб- ственному отсутствию (тем, кто расставляет вещи), и присутствующим объектом (расставленными вещами).
Показывать
Присутствующий субъект ==представляет==> присутствующий объект
Выставлять
Отсутствующий субъект (или предназначен- ный к отсутствию) ==представляет==> при- сутствующий объект
Репрезентировать
Присутствующий объект ==представляет==> отсутствующий объект
От репрезентации, лежащей в основе лю- бого искусства, выставка сохраняет возмож- ность иметь дело с отсутствием, в отличие от жеста, всегда предполагающего полное и совместное присутствие субъективности и объективности. Но от жеста, в отличие от репрезентации, выставка сохраняет необхо- димое присутствие представленного объекта: экспонируемое изображение, таким образом, не является изображением изображения, ре- презентацией репрезентации, а оказывается презентацией этой репрезентации, что есть нечто совсем другое.
Парадоксальное, на первый взгляд, след- ствие этого — выставка позволяет представ- ленному объекту представлять себя в отсут- ствие представляющего его субъекта.
Мы полагаем, именно это определяет любую выставку, любой акт выставления чего-либо напоказ, начиная с простей- ших «конструкций», сделанных птицами или приматами из веток, хвороста, ярких предметов или сверкающих осколков9 и размещенных так, чтобы их было видно в отсутствие тех, кто их «сконструировал». Выставляющий — человек или кто-то еще — готовится к собственному исчезновению и стремится придать тому, что он выставля- ет, силу, чтобы выставить себя на обозре- ние к вниманию тех, кто придет смотреть. Нам кажется, что это совершенно иной импульс, чем репрезентация, которая стре- мится скорее указать на то, чего нет, и чем жест, который предполагает присутствие того, кто его делает.
Как только живое существо начинает что-то выставлять, независимо от того, что именно, оно готовит свое собственное ис- чезновение в глазах других; оно ловко скры- вает свое существование и начинает пред- располагать то, что хотело бы показать, так, чтобы это нечто предстало перед нами как бы спонтанно.
Но как подготовить нечто к явлению? Это ключ к пониманию любой формы выставки, от первых кунсткамер до музеев изобразитель- ного искусства, от анатомических театров до естественнонаучных музеев, от диорам до зоопарков, от салонов до сегодняшнего бе- лого куба. Чтобы «предрасположить» нечто к тому, чтобы явиться, оно должно избавиться от предназначенности быть показываемым с тем, чтобы быть в состоянии показывать само себя. Поэтому становится необходимым ор- ганизовать среду, пространство и время так, чтобы объект получил определенные каче- ства, зарезервированные для демонстрации субъектности.
Выставка, таким образом, через располо- жение объектов основана на частичной (ни- когда не полной) передаче качеств от субъективности к объективности.
Чтобы лучше это понять, давайте рассмо- трим три примера таких предрасположений.
Логическое предрасположение
Во-первых, существует то, что мы назовем логическим предрасположением, которое заключается в воздействии на логическую характеристику объекта либо путем аннули- рования его сингулярности в пользу универ- сальности, либо путем аннулирования его универсальности в пользу его сингулярности. Что означает такая странная операция? Если предположить, что каждый объект являет собой одновременно и сингулярность (глыба кварца, сингулярно вырезанная в простран- стве и времени) и универсальность (кварц — качество, общее для всех остальных глыб кварца), то логическое предрасположение любой выставки будет заключаться в изоля- ции той или иной из этих характеристик путем организации материальной и символической среды, которая заставит наше восприятие увидеть в этой вещи, например, в этой глыбе кварца, либо только чистую сингулярность, либо только чистую универсальность: вещь, одновременно уникальная и общераспро- страненная, должна раздвоиться в своем бытии, чтобы ее можно было выставить. В первом случае мы получаем операцию эсте- тизации, которая лежит в основе художе- ственной выставки, поскольку вещь больше не рассматривается как нечто иное, чем не- повторимая, незаменимая индивидуальность, которая является именно тем, чем являет- ся, и которая получает свою ценность — эстетическую и коммерческую — благодаря операции сверхсингуляризации и уничтоже- ния общеуниверсальных характеристик: ни один писсуар не может заменить выбранный Дюшаном. В основе дюшановской «опера- ции» и реди-мейдов в принципе10 лежит идея выбора объекта, что равносильно выбору и представлению чего-то (очевидно, баналь- ного) как строго сингулярного. Эта операция хорошо известна и была предметом анализа Нельсона Гудмана. Но существует и обрат- ная симметричная операция, когда выставка также позволяет очистить объект от всей его сингулярности, чтобы представить его толь- ко как образец12: так лев в клетке перестает быть этим конкретным львом, а становится львом вообще. Можно утверждать, что эта операция, в результате которой неодушев- ленный предмет или организм лишается своей сингулярности, чтобы предстать толь- ко в своей универсальности, лежит в основе научной выставки, где образец является главным персонажем: на ней все систематически предстает как типичная единица своего рода, вида, класса, которую легко заменить другой.
Таким образом, логическое предрасполо- жение вещи позволяет произвести две сим- метричные операции, которые можно менять местами: для того, чтобы вещь нам явилась, она должна подвергнуться либо сингуляри- зации (и эстетизации), либо генерализации (и эпистемизации). Выставочная система пе- реносит жест, навязывающий восприятие этой вещи как чистой индивидуальности или, наоборот, как простого образца (поскольку, показывая ее, я одновременно указываю, как ее следует воспринимать), на сам объект: на- зван ли он именем собственным (что сингуля- ризует его) или именем нарицательным (что делает его общехарактерным), выступает ли он как представитель своего класса, есть ли у него автор, можно ли его заменить, срав- нивают ли его с другими, расположен ли он в нарративной последовательности вместе с другими образцами или изолирован от них, подписан ли он?
Таким образом, благодаря классификаци- онным, именовательным и расстановочным ограничениям объект логически «предрас- положен» к тому, чтобы представлять себя либо как сингулярность, либо как образец, и, следовательно, быть предназначенным в первую очередь для нашего эстетического чувства или прежде всего для нашего знания. Однако это пока еще абстрактное предрасположение суть ничто без пространственно- го предрасположения вещи.
Пространственное предрасположение
Если говорить более конкретно, то в дальнейшем мы будем называть «перивидением» (périvision — видение вокруг) и проникнове- нием те формы рационализации субъекта и, в частности, его взгляда, которые заявили о себе со времен появления первых выставоч- ных систем, начиная с кунсткамер, и были предназначены чтобы предрасположить его либо войти в вещь, либо обойти вокруг нее. Раскрытая, как в анатомических театрах13, вещь — в данном случае мертвый организм — предъявляется таким образом, что ее вну- тренняя часть становится столь же доступ- ной для нашего восприятия, как и внешняя. Вскрыть вещь и допустить в нее проникающий взгляд — значит предрасположить объект к тому, чтобы он показал себя, отказав ему в какой-либо интимности. Точно так же разме- стить объект в пространстве, что позволяет свободно перемещаться вокруг него, над ним и под ним, — значит «выставить» его для периферийного восприятия, которое снимает проклятие восприятия ограниченного, обреченного на единственную точку зрения, чтобы лучше развернуть в пространстве все грани этой вещи. «Перивидение» и проникновение суть, не- сомненно, простейшие операции по органи- зации перцептивного пространства, которые позволяют субъекту жеста больше не пока- зывать что-то из вещи, поскольку ее слепые зоны, равно как и внутренность, заранее под- готовлены к возможному восприятию. Рас- крытое таким образом, распластанное, пло- ское и лишенное теней, неживое или живое существо больше не нуждается в показе: оно как бы само раскрывается перед глазами, распахнутое, обнаженное и цельное.
В этом смысле каждая историческая форма выставки должна быть переосмыслена как пространственный прием, предрасполагающий к восприятию вещи, открывающий тот или иной вроде бы запретный или перекрытый взгляд на вещь, как если бы эта вещь теперь давала нам доступ к себе со всех точек зрения, причем и в аспекте ее становления и вечности, движения и неподвижности.
Временнόе́ предрасположение
Все сущее следует рассматривать как со- бытие, как нечто происходящее. Даже внеш- не стабильная глыба руды на самом деле — момент медленного процесса, в ходе кото- рого камень под воздействием эрозии непре- рывно и незаметно меняется. Это еще более очевидно в случае с живым организмом, ко- торый трансформируется и в конце концов умирает, а его плоть гниет и разлагается.
Чтобы выставить напоказ нечто инертное или живое, охваченное процессами непре- рывных изменений, ощутимых или неощу- тимых, необходимо предрасположить их к тому, чтобы они стали объектами, то есть сущностями, которые можно с течением времени вновь и вновь идентифицировать. Выставляя напоказ нечто находящееся в про- цессе становления, мы фиксируем его либо с помощью техники (бальзамирования, набив- ки, покрытия лаком и т. д.), либо организуя среду таким образом, чтобы обездвижить вещь, чтобы она при каждом новом посещении оказывалась тождественной сама себе — в витрине, в кунсткамере, в картотеке и классификациях вещь идентифицируется и представляется таким образом, чтобы казаться неизменной изо дня в день, из года в год.
Музеи — как замечали еще Пруст и Валери — стремятся искусственно увековечить вещи. Они выводят их из состояния станов- ления, чтобы оставить навсегда тождествен- ными самим себе.
Но современные выставочные приемы по- зволяют проделать и обратную операцию: захватить неподвижность, чтобы придать ей видимость движения, а иногда и жизни. Вслед за фенакистископом и другими устройствами для создания оптических иллюзий самым мощным устройством для экспони- рования неподвижных изображений с ви- димостью движения стал кинематограф. Но существовали и продолжают существовать другие техники искусственного «оживления» изображений и инертных объектов: драма- тизация освещения, натурные постановки диорам и использование вращающихся ос- нований. То, что на первый взгляд кажется объектом, всегда может быть преобразова- но с помощью выставочного оборудования в видимость события. Приемы же, с помощью которых, по крайней мере со времен дада, пытаются пробудить мертвых в культуре, служат, как в театре живых мертвецов, для оживления объектов, умерщвленных в ре- зультате выставления на «культурный» показ, утверждая, что создают необратимые собы- тия, нечто неслыханное, возникающее, про- исходящее сейчас и здесь.
С одной стороны, выставка превращает живые события в инертные объекты, с другой — регулярно претендует на реанимацию этих инертных объектов и преобразование их в симулякры живых событий.
В обоих случаях акт экспонирования со- стоит из «как если бы», что предрасполагает наше восприятие к рассмотрению событий, как если бы они были объектами, а объектов — как если бы они были событиями. Каким об- разом? Управляя временем. Выставить — зна- чит навязать чему-то другую темпоральность, принудить сделаться только объектом или только событием, тогда как по своей приро- де оно было и тем, и другим: зафиксировать нечто, обездвижить его и обязать выглядеть все время одним и тем же, или, напротив, за- хватить стабильную сущность и заставить ее «переродиться» с иллюзией движения.
При этом, как ни парадоксально, мы за- ставляем это нечто воздействовать на то, как мы его воспринимаем. То, что меняется, ста- новится неуловимым как таковое и предстает перед нами под видом неподвижности и веч- ности; то, что остается как было, становится неуловимым как таковое и предстает перед нами под видом движения и длительности.
Таким образом, музей не перестает трансформировать становление и живое в симулякр вечности, а затем — из этого си- мулякра вечности культурных объектов соз- давать впечатление движения и жизни, и так далее.
Это ключ к предрасположению к выстав- лению чего угодно: речь идет не просто о том, чтобы показать инертное так, как если бы оно двигалось, а движущееся так, как если бы оно было статичным, а о том, чтобы создать среду, в которой само бытие вещей во времени могло бы казаться противопо- ложным тому, чем оно является, чтобы со- здать впечатление, что оно действует, и что это сама вещь действует, ибо стала субъек- том. Как зрители, мы испытываем ощущение, что произведение в музее предлагает нам себя, что оно спонтанно оторвалось от вре- мени, чтобы предстать перед нашим зрени- ем неподвижным, одинаковым и вечным, или, напротив, что движущееся изображение дви- жется и оживляет себя само.
Именно это в конечном итоге и означает «предрасположить»: сделать так, чтобы казалось — то, что мы делаем с вещами, вещи делают спонтанно сами.
Перенос предрасположений
В основе выставки, таким образом, лежит частичный перенос между субъективностью и объективностью.
Чтобы субъект жеста (человек показыва- ющий или люди показывающие) мог делать вид, что исчезает, чтобы показываемое его пережило, необходимо, чтобы этот субъект наделил его некоторыми своими качествами. То, что мы называем выставочным приемом, в своей наиболее конкретной форме, которую следует рассматривать от периода к периоду (архитектура, планировка внутреннего про- странства, хронология, социальные правила, запреты, управление движением тел, темпе- ратура, свет, видимость вещей и т. д.), по сути, является переносом определенных потенци- алов с восприятия объектов на воспринима- емые объекты.
Вместо того чтобы проникать в материю вещей, мы делаем так, чтобы эта материя ка- залась проницаемой: мы предрасполагаем ее к проникновению взгляда. Вместо вращения объекта мы делаем его видимым со всех воз- можных точек зрения: мы превращаем его в калейдоскоп самого себя. Вещи таким обра- зом как бы сами предстают перед чьим угод- но восприятием. Они будто бы сами предла- гают себя нам, потому что предвосхищают операции, которые нам придется проделать, чтобы проникнуть в них, очертить и обнару- жить. Они открывают себя заранее, или, ско- рее, готовы это сделать.
Историческая форма выставки есть не что иное, как набор предрасположений, пред- восхищающих и подготавливающих наше восприятие, приписывая их тем вещам, которые мы воспринимаем, — природным объектам и произведениям искусства, предлагающим себя нашему взгляду. Ведь что такое музей? Это набор социальных, простран- ственных, временных, логических и онтоло-
гических предрасположений (отбор публики, платный или бесплатный вход, регламентация посещений, монументальная архитектура и убранство, организация потоков посетите- лей, соблюдение дистанции по отношению к выставленным произведениям, запрет на прикосновение к ним, их возвышение, фронтальный показ, расстояние между произведениями, поза для созерцания — стоя или сидя, образовательные экскурсии, возможность виртуального посещения в режиме онлайн и т. д.17), которые частично освобождают зрителей от активности, чтобы сделать активными объекты их созерцания. Произведения, как нам кажется, в свою очередь, действуют пропорционально отказу от действия тех, кто их созерцает.
Потому что, как и при любом переносе, здесь есть два направления.
Если субъективность наделяет некоторы- ми из своих качеств выставленные объекты, то объекты, в ответ, предоставляют неко- торые из своих атрибутов субъектам. Если на выставке нам кажется, что показываемые вещи становятся активными, отдающими себя, показывающими себя, предлагающи- ми себя нашему взгляду, то это потому, что зрители-субъекты, которыми мы являемся, теряют по крайней мере часть своей способ- ности творить и оказываются до некоторой степени предрасположенными как объекты. Наши движения, жесты и отношение управляются расположением этих объектов. Не бывает выставок без ограничивающего меха- низма, воздействующего на тела приходящих посмотреть, дисциплинирующего их и иногда заставляющего стоять на месте, когда они хотят двигаться, двигаться, когда они хотят остановиться, отойти назад, когда они хотят пойти вперед, не прикасаться, когда они про- тягивают руку. На тела зрителей это произво- дит эффект восприимчивости, пассивности и, в целом, объективации.
Мирей Бертон в книге «Нервное тело зри- телей», изучив связи между психоанализом,
Юрий Альберт «Экскурсия с завязанными глазами III», 15.07.2002. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Предоставлено художником.
психиатрией и ранним кинематографом, по- казала, как первые фильмы, которые люди смотрели стоя, без рассадки по зрительским местам, стали одомашненной формой кино18. Из-за опасений, возникших по поводу неких технических приемов, которые, как считалось, могли возбуждать нервозность тела, особен- но женского, и вызывать приступы истерики в результате воздействия «подсвечиваемого» движения на ничем не ограничиваемые тела, зрителей в итоге рассадили по сиденьям, а си- денья оснастили подлокотниками. Это была не просто операция по созданию более ком- фортных условий, а глубокая трансформация среды, в которой демонстрировались филь- мы, оказавшая воздействие на тела зрителей, сделавшая их более пассивными и, как счита- ется, более спокойными, что благоприятство- вало повествованию и созерцанию в ущерб визуальному шоку, мышечной и нервной реак- ции на изображения. Чтобы киноизображения больше и лучше воздействовали на зрителей, необходимо было уменьшить потенциал для действий этих зрителей.
Так всегда происходит с выставочной системой, которая, чтобы позволить вещам показать себя и за счет этого воздействовать на нас без необходимости эти вещи «активировать», должна уменьшить наш потенциал к действию, дисциплинировать наши тела, трансформировать наше отношение и перенести отнимаемое у нас на показываемые объекты и изображения.
Иллюзия спонтанеизма
По мере того, как изобретались и демо- кратизировались современные музеи, раз- рабатывались системы демонстрации дви- жущихся изображений, классифицировались природные объекты в рамках гигантских коллекций, становившихся достоянием об- щественности, процесс переноса через вы- ставку подвергся рационализации. Неизбеж- но возросло ощущение пассивности зрителя, отчужденности и лишения его потенциала действия, перенесенного на сами вещи и от- нятого у акторов.
В истории выставочных форм, таким образом, возникла контр-история — история организованного бунта против переноса субъ- ективной активности на объекты и дисциплинирования тел все более строгими системами выставочных площадок.
Происходящий на выставке процесс пе- реноса, собственно, и привел к этому свое- образному бунту — модернистский проект вознамерился обратить его вспять, вернуть субъектам качества субъективности, а объек- там — объективности. Следы этого проекта можно обнаружить в истории авангарда, на выставках русских конструктивистов19, в сюр- реалистических интервенциях, а затем — в послевоенном акционизме20, в театрализации выставочной презентации — так всякий раз, когда модернистский проект возрождается, возвращается также и стремление превра- тить выставку обратно в жест. Назовем это стремление спонтанеистским импульсом: вопреки уловкам любой выставочной систе- мы (социальным ритуалам, конвенциям, за- претам, пространственному расположению, фронтальности, ограниченной и регламен- тированной длительности) спонтанеистский импульс стремится восстановить стертый выставкой суверенитет жеста. Он хотел бы вернуть субъекту-зрителю его активность, больше не подчинять его показывающему себя объекту и позволить ему снова активно воспринимать то, что ему показывает другой субъект (художник).
Но в этом случае стирается существенное концептуальное различие между показом (montrer) и экспонированием (exposer): чем больше нечто активно показывается, тем меньше оно экспонируется. В этом и заклю- чается трагедия партиципаторного и органи- зованного обращения к спонтанности. Пока нечто настаивает на том, чтобы выглядеть как выставка, оно становится ложным: жест — это не выставка. Либо выставка терпит поражение, порождая жест, ее отменяющий, удерживающийся до тех пор, пока есть субъ- ект, который здесь и сейчас его осуществляет; либо выставка сохраняется, и тогда она не может претендовать на спонтанность жеста: она терпит поражение, потому что все равно зависит от механизмов медиации и ритуализации, поддерживающих ее в пространстве и времени за пределами жеста.
Художническая иллюзия
Другая реакция — носит противоположный характер.
Иллюзии спонтанеистской противостоит иллюзия, которую мы будем называть худож- нической: выставка вознамеривается стать произведением. В этом случае, чтобы разре- шить конфликт, возникающий при переносе через выставочную систему между показы- вающим себя объектом и воспринимающим, т.е. пассивным зрителем, выставка претен- дует на то, чтобы сублимировать саму себя и самой стать репрезентацией, произведе- нием искусства, чаще всего метапроизведе- нием, репрезентацией репрезентации. Здесь сразу вспоминается проект Харальда Зее- мана на кассельской «Документе» в 1970-е годы. Современная музеография поощряет такое представление о выставке как о произведении искусства21, путая выставку с репрезентацией: то, что выставлено, что присутствует, удаляется и становится как бы отсутствующим. Акт экспонирования со- стоит, таким образом, в отрицании присут- ствия произведений и в отношении к ним как к набору знаков и признаков, подобных словам или словосочетаниям в большом предложении, так, чтобы в рамках выставки образы, изображения, картины, скульпту- ры, тела, расстановка работ и инсталляций рассматривались как новый материал для репрезентации более высокого порядка, строителем которой становится куратор: на произведения первого порядка накладыва- ется произведение второго порядка — про- изведение критическое, которое, в свою очередь, выставляя нечто, репрезентирует себя и означивает.
Таким образом, напряжение от выставочного переноса (transfert d’exposition), посредством которого объект показывает себя, сни- мается, поскольку объект теперь показывает нечто иное, чем он сам, и несет смысл, направляемый куратором зрителю, который, придя на такую выставку, оказывается как бы перед картиной картин или текстом текстов.
Но тогда выставка, ставшая произведе- нием, низводит выставленные работы до уровня произведений первого порядка, сама оказываясь произведением второго порядка, и одновременно отменяет себя как выставку: она становится искусством22, но есть ли у нее для этого средства? Только при условии, что она больше не будет представлять себя в ка- честве выставки.
В обоих случаях теряется сам смысл, исхо- дящий из фундаментального живого и антро- пологического импульса — смысл отдельной выставки жестов и репрезентаций: третьей возможности больше нет и больше нет соб- ственно выставки. Она становится проектом спонтанности или, наоборот, метахудожественным произведением.
Заманчиво расценить выставку жанром репрезентации. Как и любой образ, то, что выставлено, обозначает нечто, в то время как человека, который хотел обозначить это нечто, уже нет на месте, чтобы указать на него пальцем. А если предположить, что у репре- зентации вообще существовала модель в ре- альном мире, то картина переживет модель и художника, аналогично и выставка существует и в отсутствие человека, который ее задумал. Значит ли это, что выставку образов следует считать образом, подобным другим образам, а выставку знаков — значением (signification), подобным другим значениям?
Если да, то мы путаем порядки и совершаем ошибку, симметричную предыдущей (отождествлению жеста с выставкой).
Если репрезентация, например, неподвижное изображение — живописное или фотографическое — делает нечто присутствующее отсутствующим (в данном случае речь идет о пространственном измерении, поскольку оно превращает трехмерное из- мерение в квазидвухмерное) с тем, чтобы это отсутствующее представить (ландшафт, лицо, силуэт, возможно, абстрактную форму или даже идеальность)8, то выставка никог- да не представляет нам ничего, кроме того, что уже существует. Выставлять, как и пока- зывать, — значит делать присутствующим то, что уже есть: природные образцы, артефакты, тела, движения, конфигурации и, возможно, образы...
Конечно, можно выставлять репрезента- ции, и именно это обычно и происходит в ху- дожественных музеях и галереях, только вот ошибочным будет вообразить, отдавшись своего рода метахудожественной иллюзии, что в этом случае мы репрезентируем репре- зентации, создаем произведение из произве- дений. Нет, напротив, выставка представляет как тела, так и образы, а иногда и тексты, и идеи — в их полновесной материальности, в их неоспоримой наличности. Или, если ска- зать точнее — выставка дает возможность присутствия репрезентациям, ускользающим в идеальность, скрывающим то, что есть, чтобы указать на то, чего нет. С этой точки зрения, выставлять — значит возвращать к своему первоначальному присутствию объ- екты, которые стремятся сделать отсутству- ющим что-то из своего hic et nunc (здесь и сейчас). Выставляющий произведение художника должен каким-то образом, с той или иной степенью деликатности, разобрать, «распаковать» это произведение, чтобы дать ему возможность лучше проявиться. По этой причине выставка, даже поставленная на службу репрезентациям, показывая их — ра- ботает и против них, потому что она никогда не обозначает ничего, чего нет конкретно здесь, в данном пространстве и времени.
И именно это отдаляет выставку от понятия репрезентации, но приближает к понятию жеста.
Не показывать и не репрезентировать, а предрасполагать для явления
Суммируем сказанное: показ (жест) есть направленное отношение между присутствую- щим субъектом и присутствующим объектом; репрезентация (изображение, текст, музыка) есть направленное отношение между присут- ствующим объектом (цветами и формами, фо- немами или знаками, частотами или ритмами) и объектом отсутствующим (фигурой, силуэтом, реальной или воображаемой сценой, кото- рую мы описываем, чувством, которое вы- зываем). Между ними — то, что мы называем «выставкой», «экспозицией»: направленное отношение между субъектом, готовым к соб- ственному отсутствию (тем, кто расставляет вещи), и присутствующим объектом (расставленными вещами).
Показывать
Присутствующий субъект ==представляет==> присутствующий объект
Выставлять
Отсутствующий субъект (или предназначен- ный к отсутствию) ==представляет==> при- сутствующий объект
Репрезентировать
Присутствующий объект ==представляет==> отсутствующий объект
От репрезентации, лежащей в основе лю- бого искусства, выставка сохраняет возмож- ность иметь дело с отсутствием, в отличие от жеста, всегда предполагающего полное и совместное присутствие субъективности и объективности. Но от жеста, в отличие от репрезентации, выставка сохраняет необхо- димое присутствие представленного объекта: экспонируемое изображение, таким образом, не является изображением изображения, ре- презентацией репрезентации, а оказывается презентацией этой репрезентации, что есть нечто совсем другое.
Парадоксальное, на первый взгляд, след- ствие этого — выставка позволяет представ- ленному объекту представлять себя в отсут- ствие представляющего его субъекта.
Мы полагаем, именно это определяет любую выставку, любой акт выставления чего-либо напоказ, начиная с простей- ших «конструкций», сделанных птицами или приматами из веток, хвороста, ярких предметов или сверкающих осколков9 и размещенных так, чтобы их было видно в отсутствие тех, кто их «сконструировал». Выставляющий — человек или кто-то еще — готовится к собственному исчезновению и стремится придать тому, что он выставля- ет, силу, чтобы выставить себя на обозре- ние к вниманию тех, кто придет смотреть. Нам кажется, что это совершенно иной импульс, чем репрезентация, которая стре- мится скорее указать на то, чего нет, и чем жест, который предполагает присутствие того, кто его делает.
Как только живое существо начинает что-то выставлять, независимо от того, что именно, оно готовит свое собственное ис- чезновение в глазах других; оно ловко скры- вает свое существование и начинает пред- располагать то, что хотело бы показать, так, чтобы это нечто предстало перед нами как бы спонтанно.
Но как подготовить нечто к явлению? Это ключ к пониманию любой формы выставки, от первых кунсткамер до музеев изобразитель- ного искусства, от анатомических театров до естественнонаучных музеев, от диорам до зоопарков, от салонов до сегодняшнего бе- лого куба. Чтобы «предрасположить» нечто к тому, чтобы явиться, оно должно избавиться от предназначенности быть показываемым с тем, чтобы быть в состоянии показывать само себя. Поэтому становится необходимым ор- ганизовать среду, пространство и время так, чтобы объект получил определенные каче- ства, зарезервированные для демонстрации субъектности.
Выставка, таким образом, через располо- жение объектов основана на частичной (ни- когда не полной) передаче качеств от субъективности к объективности.
Чтобы лучше это понять, давайте рассмо- трим три примера таких предрасположений.
Логическое предрасположение
Во-первых, существует то, что мы назовем логическим предрасположением, которое заключается в воздействии на логическую характеристику объекта либо путем аннули- рования его сингулярности в пользу универ- сальности, либо путем аннулирования его универсальности в пользу его сингулярности. Что означает такая странная операция? Если предположить, что каждый объект являет собой одновременно и сингулярность (глыба кварца, сингулярно вырезанная в простран- стве и времени) и универсальность (кварц — качество, общее для всех остальных глыб кварца), то логическое предрасположение любой выставки будет заключаться в изоля- ции той или иной из этих характеристик путем организации материальной и символической среды, которая заставит наше восприятие увидеть в этой вещи, например, в этой глыбе кварца, либо только чистую сингулярность, либо только чистую универсальность: вещь, одновременно уникальная и общераспро- страненная, должна раздвоиться в своем бытии, чтобы ее можно было выставить. В первом случае мы получаем операцию эсте- тизации, которая лежит в основе художе- ственной выставки, поскольку вещь больше не рассматривается как нечто иное, чем не- повторимая, незаменимая индивидуальность, которая является именно тем, чем являет- ся, и которая получает свою ценность — эстетическую и коммерческую — благодаря операции сверхсингуляризации и уничтоже- ния общеуниверсальных характеристик: ни один писсуар не может заменить выбранный Дюшаном. В основе дюшановской «опера- ции» и реди-мейдов в принципе10 лежит идея выбора объекта, что равносильно выбору и представлению чего-то (очевидно, баналь- ного) как строго сингулярного. Эта операция хорошо известна и была предметом анализа Нельсона Гудмана. Но существует и обрат- ная симметричная операция, когда выставка также позволяет очистить объект от всей его сингулярности, чтобы представить его толь- ко как образец12: так лев в клетке перестает быть этим конкретным львом, а становится львом вообще. Можно утверждать, что эта операция, в результате которой неодушев- ленный предмет или организм лишается своей сингулярности, чтобы предстать толь- ко в своей универсальности, лежит в основе научной выставки, где образец является главным персонажем: на ней все систематически предстает как типичная единица своего рода, вида, класса, которую легко заменить другой.
Таким образом, логическое предрасполо- жение вещи позволяет произвести две сим- метричные операции, которые можно менять местами: для того, чтобы вещь нам явилась, она должна подвергнуться либо сингуляри- зации (и эстетизации), либо генерализации (и эпистемизации). Выставочная система пе- реносит жест, навязывающий восприятие этой вещи как чистой индивидуальности или, наоборот, как простого образца (поскольку, показывая ее, я одновременно указываю, как ее следует воспринимать), на сам объект: на- зван ли он именем собственным (что сингуля- ризует его) или именем нарицательным (что делает его общехарактерным), выступает ли он как представитель своего класса, есть ли у него автор, можно ли его заменить, срав- нивают ли его с другими, расположен ли он в нарративной последовательности вместе с другими образцами или изолирован от них, подписан ли он?
Таким образом, благодаря классификаци- онным, именовательным и расстановочным ограничениям объект логически «предрас- положен» к тому, чтобы представлять себя либо как сингулярность, либо как образец, и, следовательно, быть предназначенным в первую очередь для нашего эстетического чувства или прежде всего для нашего знания. Однако это пока еще абстрактное предрасположение суть ничто без пространственно- го предрасположения вещи.
Пространственное предрасположение
Если говорить более конкретно, то в дальнейшем мы будем называть «перивидением» (périvision — видение вокруг) и проникнове- нием те формы рационализации субъекта и, в частности, его взгляда, которые заявили о себе со времен появления первых выставоч- ных систем, начиная с кунсткамер, и были предназначены чтобы предрасположить его либо войти в вещь, либо обойти вокруг нее. Раскрытая, как в анатомических театрах13, вещь — в данном случае мертвый организм — предъявляется таким образом, что ее вну- тренняя часть становится столь же доступ- ной для нашего восприятия, как и внешняя. Вскрыть вещь и допустить в нее проникающий взгляд — значит предрасположить объект к тому, чтобы он показал себя, отказав ему в какой-либо интимности. Точно так же разме- стить объект в пространстве, что позволяет свободно перемещаться вокруг него, над ним и под ним, — значит «выставить» его для периферийного восприятия, которое снимает проклятие восприятия ограниченного, обреченного на единственную точку зрения, чтобы лучше развернуть в пространстве все грани этой вещи. «Перивидение» и проникновение суть, не- сомненно, простейшие операции по органи- зации перцептивного пространства, которые позволяют субъекту жеста больше не пока- зывать что-то из вещи, поскольку ее слепые зоны, равно как и внутренность, заранее под- готовлены к возможному восприятию. Рас- крытое таким образом, распластанное, пло- ское и лишенное теней, неживое или живое существо больше не нуждается в показе: оно как бы само раскрывается перед глазами, распахнутое, обнаженное и цельное.
В этом смысле каждая историческая форма выставки должна быть переосмыслена как пространственный прием, предрасполагающий к восприятию вещи, открывающий тот или иной вроде бы запретный или перекрытый взгляд на вещь, как если бы эта вещь теперь давала нам доступ к себе со всех точек зрения, причем и в аспекте ее становления и вечности, движения и неподвижности.
Временнόе́ предрасположение
Все сущее следует рассматривать как со- бытие, как нечто происходящее. Даже внеш- не стабильная глыба руды на самом деле — момент медленного процесса, в ходе кото- рого камень под воздействием эрозии непре- рывно и незаметно меняется. Это еще более очевидно в случае с живым организмом, ко- торый трансформируется и в конце концов умирает, а его плоть гниет и разлагается.
Чтобы выставить напоказ нечто инертное или живое, охваченное процессами непре- рывных изменений, ощутимых или неощу- тимых, необходимо предрасположить их к тому, чтобы они стали объектами, то есть сущностями, которые можно с течением времени вновь и вновь идентифицировать. Выставляя напоказ нечто находящееся в про- цессе становления, мы фиксируем его либо с помощью техники (бальзамирования, набив- ки, покрытия лаком и т. д.), либо организуя среду таким образом, чтобы обездвижить вещь, чтобы она при каждом новом посещении оказывалась тождественной сама себе — в витрине, в кунсткамере, в картотеке и классификациях вещь идентифицируется и представляется таким образом, чтобы казаться неизменной изо дня в день, из года в год.
Музеи — как замечали еще Пруст и Валери — стремятся искусственно увековечить вещи. Они выводят их из состояния станов- ления, чтобы оставить навсегда тождествен- ными самим себе.
Но современные выставочные приемы по- зволяют проделать и обратную операцию: захватить неподвижность, чтобы придать ей видимость движения, а иногда и жизни. Вслед за фенакистископом и другими устройствами для создания оптических иллюзий самым мощным устройством для экспони- рования неподвижных изображений с ви- димостью движения стал кинематограф. Но существовали и продолжают существовать другие техники искусственного «оживления» изображений и инертных объектов: драма- тизация освещения, натурные постановки диорам и использование вращающихся ос- нований. То, что на первый взгляд кажется объектом, всегда может быть преобразова- но с помощью выставочного оборудования в видимость события. Приемы же, с помощью которых, по крайней мере со времен дада, пытаются пробудить мертвых в культуре, служат, как в театре живых мертвецов, для оживления объектов, умерщвленных в ре- зультате выставления на «культурный» показ, утверждая, что создают необратимые собы- тия, нечто неслыханное, возникающее, про- исходящее сейчас и здесь.
С одной стороны, выставка превращает живые события в инертные объекты, с другой — регулярно претендует на реанимацию этих инертных объектов и преобразование их в симулякры живых событий.
В обоих случаях акт экспонирования со- стоит из «как если бы», что предрасполагает наше восприятие к рассмотрению событий, как если бы они были объектами, а объектов — как если бы они были событиями. Каким об- разом? Управляя временем. Выставить — зна- чит навязать чему-то другую темпоральность, принудить сделаться только объектом или только событием, тогда как по своей приро- де оно было и тем, и другим: зафиксировать нечто, обездвижить его и обязать выглядеть все время одним и тем же, или, напротив, за- хватить стабильную сущность и заставить ее «переродиться» с иллюзией движения.
При этом, как ни парадоксально, мы за- ставляем это нечто воздействовать на то, как мы его воспринимаем. То, что меняется, ста- новится неуловимым как таковое и предстает перед нами под видом неподвижности и веч- ности; то, что остается как было, становится неуловимым как таковое и предстает перед нами под видом движения и длительности.
Таким образом, музей не перестает трансформировать становление и живое в симулякр вечности, а затем — из этого си- мулякра вечности культурных объектов соз- давать впечатление движения и жизни, и так далее.
Это ключ к предрасположению к выстав- лению чего угодно: речь идет не просто о том, чтобы показать инертное так, как если бы оно двигалось, а движущееся так, как если бы оно было статичным, а о том, чтобы создать среду, в которой само бытие вещей во времени могло бы казаться противопо- ложным тому, чем оно является, чтобы со- здать впечатление, что оно действует, и что это сама вещь действует, ибо стала субъек- том. Как зрители, мы испытываем ощущение, что произведение в музее предлагает нам себя, что оно спонтанно оторвалось от вре- мени, чтобы предстать перед нашим зрени- ем неподвижным, одинаковым и вечным, или, напротив, что движущееся изображение дви- жется и оживляет себя само.
Именно это в конечном итоге и означает «предрасположить»: сделать так, чтобы казалось — то, что мы делаем с вещами, вещи делают спонтанно сами.
Перенос предрасположений
В основе выставки, таким образом, лежит частичный перенос между субъективностью и объективностью.
Чтобы субъект жеста (человек показыва- ющий или люди показывающие) мог делать вид, что исчезает, чтобы показываемое его пережило, необходимо, чтобы этот субъект наделил его некоторыми своими качествами. То, что мы называем выставочным приемом, в своей наиболее конкретной форме, которую следует рассматривать от периода к периоду (архитектура, планировка внутреннего про- странства, хронология, социальные правила, запреты, управление движением тел, темпе- ратура, свет, видимость вещей и т. д.), по сути, является переносом определенных потенци- алов с восприятия объектов на воспринима- емые объекты.
Вместо того чтобы проникать в материю вещей, мы делаем так, чтобы эта материя ка- залась проницаемой: мы предрасполагаем ее к проникновению взгляда. Вместо вращения объекта мы делаем его видимым со всех воз- можных точек зрения: мы превращаем его в калейдоскоп самого себя. Вещи таким обра- зом как бы сами предстают перед чьим угод- но восприятием. Они будто бы сами предла- гают себя нам, потому что предвосхищают операции, которые нам придется проделать, чтобы проникнуть в них, очертить и обнару- жить. Они открывают себя заранее, или, ско- рее, готовы это сделать.
Историческая форма выставки есть не что иное, как набор предрасположений, пред- восхищающих и подготавливающих наше восприятие, приписывая их тем вещам, которые мы воспринимаем, — природным объектам и произведениям искусства, предлагающим себя нашему взгляду. Ведь что такое музей? Это набор социальных, простран- ственных, временных, логических и онтоло-
гических предрасположений (отбор публики, платный или бесплатный вход, регламентация посещений, монументальная архитектура и убранство, организация потоков посетите- лей, соблюдение дистанции по отношению к выставленным произведениям, запрет на прикосновение к ним, их возвышение, фронтальный показ, расстояние между произведениями, поза для созерцания — стоя или сидя, образовательные экскурсии, возможность виртуального посещения в режиме онлайн и т. д.17), которые частично освобождают зрителей от активности, чтобы сделать активными объекты их созерцания. Произведения, как нам кажется, в свою очередь, действуют пропорционально отказу от действия тех, кто их созерцает.
Потому что, как и при любом переносе, здесь есть два направления.
Если субъективность наделяет некоторы- ми из своих качеств выставленные объекты, то объекты, в ответ, предоставляют неко- торые из своих атрибутов субъектам. Если на выставке нам кажется, что показываемые вещи становятся активными, отдающими себя, показывающими себя, предлагающи- ми себя нашему взгляду, то это потому, что зрители-субъекты, которыми мы являемся, теряют по крайней мере часть своей способ- ности творить и оказываются до некоторой степени предрасположенными как объекты. Наши движения, жесты и отношение управляются расположением этих объектов. Не бывает выставок без ограничивающего меха- низма, воздействующего на тела приходящих посмотреть, дисциплинирующего их и иногда заставляющего стоять на месте, когда они хотят двигаться, двигаться, когда они хотят остановиться, отойти назад, когда они хотят пойти вперед, не прикасаться, когда они про- тягивают руку. На тела зрителей это произво- дит эффект восприимчивости, пассивности и, в целом, объективации.
Мирей Бертон в книге «Нервное тело зри- телей», изучив связи между психоанализом,
Юрий Альберт «Экскурсия с завязанными глазами III», 15.07.2002. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Предоставлено художником.
психиатрией и ранним кинематографом, по- казала, как первые фильмы, которые люди смотрели стоя, без рассадки по зрительским местам, стали одомашненной формой кино18. Из-за опасений, возникших по поводу неких технических приемов, которые, как считалось, могли возбуждать нервозность тела, особен- но женского, и вызывать приступы истерики в результате воздействия «подсвечиваемого» движения на ничем не ограничиваемые тела, зрителей в итоге рассадили по сиденьям, а си- денья оснастили подлокотниками. Это была не просто операция по созданию более ком- фортных условий, а глубокая трансформация среды, в которой демонстрировались филь- мы, оказавшая воздействие на тела зрителей, сделавшая их более пассивными и, как счита- ется, более спокойными, что благоприятство- вало повествованию и созерцанию в ущерб визуальному шоку, мышечной и нервной реак- ции на изображения. Чтобы киноизображения больше и лучше воздействовали на зрителей, необходимо было уменьшить потенциал для действий этих зрителей.
Так всегда происходит с выставочной системой, которая, чтобы позволить вещам показать себя и за счет этого воздействовать на нас без необходимости эти вещи «активировать», должна уменьшить наш потенциал к действию, дисциплинировать наши тела, трансформировать наше отношение и перенести отнимаемое у нас на показываемые объекты и изображения.
Иллюзия спонтанеизма
По мере того, как изобретались и демо- кратизировались современные музеи, раз- рабатывались системы демонстрации дви- жущихся изображений, классифицировались природные объекты в рамках гигантских коллекций, становившихся достоянием об- щественности, процесс переноса через вы- ставку подвергся рационализации. Неизбеж- но возросло ощущение пассивности зрителя, отчужденности и лишения его потенциала действия, перенесенного на сами вещи и от- нятого у акторов.
В истории выставочных форм, таким образом, возникла контр-история — история организованного бунта против переноса субъ- ективной активности на объекты и дисциплинирования тел все более строгими системами выставочных площадок.
Происходящий на выставке процесс пе- реноса, собственно, и привел к этому свое- образному бунту — модернистский проект вознамерился обратить его вспять, вернуть субъектам качества субъективности, а объек- там — объективности. Следы этого проекта можно обнаружить в истории авангарда, на выставках русских конструктивистов19, в сюр- реалистических интервенциях, а затем — в послевоенном акционизме20, в театрализации выставочной презентации — так всякий раз, когда модернистский проект возрождается, возвращается также и стремление превра- тить выставку обратно в жест. Назовем это стремление спонтанеистским импульсом: вопреки уловкам любой выставочной систе- мы (социальным ритуалам, конвенциям, за- претам, пространственному расположению, фронтальности, ограниченной и регламен- тированной длительности) спонтанеистский импульс стремится восстановить стертый выставкой суверенитет жеста. Он хотел бы вернуть субъекту-зрителю его активность, больше не подчинять его показывающему себя объекту и позволить ему снова активно воспринимать то, что ему показывает другой субъект (художник).
Но в этом случае стирается существенное концептуальное различие между показом (montrer) и экспонированием (exposer): чем больше нечто активно показывается, тем меньше оно экспонируется. В этом и заклю- чается трагедия партиципаторного и органи- зованного обращения к спонтанности. Пока нечто настаивает на том, чтобы выглядеть как выставка, оно становится ложным: жест — это не выставка. Либо выставка терпит поражение, порождая жест, ее отменяющий, удерживающийся до тех пор, пока есть субъ- ект, который здесь и сейчас его осуществляет; либо выставка сохраняется, и тогда она не может претендовать на спонтанность жеста: она терпит поражение, потому что все равно зависит от механизмов медиации и ритуализации, поддерживающих ее в пространстве и времени за пределами жеста.
Художническая иллюзия
Другая реакция — носит противоположный характер.
Иллюзии спонтанеистской противостоит иллюзия, которую мы будем называть худож- нической: выставка вознамеривается стать произведением. В этом случае, чтобы разре- шить конфликт, возникающий при переносе через выставочную систему между показы- вающим себя объектом и воспринимающим, т.е. пассивным зрителем, выставка претен- дует на то, чтобы сублимировать саму себя и самой стать репрезентацией, произведе- нием искусства, чаще всего метапроизведе- нием, репрезентацией репрезентации. Здесь сразу вспоминается проект Харальда Зее- мана на кассельской «Документе» в 1970-е годы. Современная музеография поощряет такое представление о выставке как о произведении искусства21, путая выставку с репрезентацией: то, что выставлено, что присутствует, удаляется и становится как бы отсутствующим. Акт экспонирования со- стоит, таким образом, в отрицании присут- ствия произведений и в отношении к ним как к набору знаков и признаков, подобных словам или словосочетаниям в большом предложении, так, чтобы в рамках выставки образы, изображения, картины, скульпту- ры, тела, расстановка работ и инсталляций рассматривались как новый материал для репрезентации более высокого порядка, строителем которой становится куратор: на произведения первого порядка накладыва- ется произведение второго порядка — про- изведение критическое, которое, в свою очередь, выставляя нечто, репрезентирует себя и означивает.
Таким образом, напряжение от выставочного переноса (transfert d’exposition), посредством которого объект показывает себя, сни- мается, поскольку объект теперь показывает нечто иное, чем он сам, и несет смысл, направляемый куратором зрителю, который, придя на такую выставку, оказывается как бы перед картиной картин или текстом текстов.
Но тогда выставка, ставшая произведе- нием, низводит выставленные работы до уровня произведений первого порядка, сама оказываясь произведением второго порядка, и одновременно отменяет себя как выставку: она становится искусством22, но есть ли у нее для этого средства? Только при условии, что она больше не будет представлять себя в ка- честве выставки.
В обоих случаях теряется сам смысл, исхо- дящий из фундаментального живого и антро- пологического импульса — смысл отдельной выставки жестов и репрезентаций: третьей возможности больше нет и больше нет соб- ственно выставки. Она становится проектом спонтанности или, наоборот, метахудожественным произведением.

Выставка как сконструированное откровение
Как сохранить простую возможность вы- ставлять что бы то ни было, не впадая в спон- танеистскую иллюзию выставки-жеста или в художническую иллюзию выставки-произ- ведения? В этом и заключается сложность современных выставочных систем, которые постоянно сталкиваются то с одним, то с другим из этих искушений. Художники, опа- сающиеся, что их работы застынут в момент, когда их — эти работы — выставят, испыты- вают искушение превратить выставку в жест; кураторы, выставляющие эти работы, испы- тывают искушение превратить выставку в ре- презентацию, чтобы тоже стать своего рода художниками.
Но чтобы сохранить выставку как таковую, мы, несомненно, должны постоянно возвра- щаться к третьей возможности — живой способности, особенно человеческой, пока- зывать, не показывая, репрезентировать, не репрезентируя. Как? Во-первых, всякий раз подчеркивая, что выставка не мгновенна, что она сконструирована и никогда не сможет быть совмещена с идеализированной спонтанностью жеста. Во-вторых, что выставка работает с реальным присутствием и никог- да не материализует ничего отсутствующего, как это делают изображения, тексты и си- стемы знаков. Прежде всего, тот, кто что-то выставляет, должен сделать видимым, замет- ным прием, с помощью которого он застав- ляет нечто явиться перед нами, одновремен- но готовя свое собственное исчезновение с места действия. Поскольку он предраспо- лагает к явлению один или несколько объ- ектов, одно или несколько событий, частей природы, артефактов, произведений, тел и движений, не делая вид, что они показывают себя спонтанно, ему никогда не следует зату- шевывать используемый им социальный ап- парат перемещения, драматургии и восприя- тия, но при этом важно, чтобы такой аппарат не оказался новым центральным объектом выставки. Чтобы осмотр выставки стал опы- том (expérience), мы должны осознавать пути медиации, по которым нечто является перед нами, не делая их предметом восприятия, чтобы они оставались средством, а не целью.
В конечном счете эти средства, эти пред- расположения всегда должны служить делу возникновения некой идеи, присутствия, ре- презентации. Ведь если выставка сводится к драматургии собственной драматургии, она теряет цель, заключающуюся в том, чтобы дать возможность нам, зрителям, узреть некое явление (apparition).
В этом и состоит высший смысл выставоч- ного акта: позволить всему, что достойно ин- тереса и что формирует наш эстезис и наше знание, явиться и стать видимым, заметным. Таким образом, правильная выставка, со- храняющая возможность этой изначальной способности, рационализированной совре- менностью, которая разделила ее на худо- жественный и научный виды, на эстетику и эпистемологию, на драматургию незамени- мой сингулярности вещей и драматургию об- разцов, всегда будет выставкой, искусственно предрасполагающей к откровению.
Цель любой выставки — возникновение чего-то, но посредством некой системы или аппарата и поэтому без претензии на не- посредственность, спонтанность или естественность: хорошая выставка — это продуманное и сконструированное откровение (révélation).
Возможно, в этом и заключается тот отда- ленный идеал, который, тем не менее, направ- ляет различные формы выставок, не дающих себя свести ни к жестам, ни к произведениям, принадлежащих к другому жанру, который в любом случае проходит через всю историю витрин, галерей и музеев, в сознании всех тех, кто стремится материально произвести жест, выходящий за рамки субъективного и спон- танного, чтобы показать части природы, про- изведения человека, смеси, инертные объек- ты, живые или мертвые тела, акты, предлагая их нашему восприятию. Выставить их — значит раскрыть их, но не как чудо, а как терпеливый результат конструирования мест и моментов, когда можно будет сделать так, чтобы все могло себя показать.
Тристан Гарсия
Родился в Тулузе в 1981 году. Писатель, философ. Автор нескольких романов и философских исследований. Преподает в Университете Лион-3. Живет в Париже.
Как сохранить простую возможность вы- ставлять что бы то ни было, не впадая в спон- танеистскую иллюзию выставки-жеста или в художническую иллюзию выставки-произ- ведения? В этом и заключается сложность современных выставочных систем, которые постоянно сталкиваются то с одним, то с другим из этих искушений. Художники, опа- сающиеся, что их работы застынут в момент, когда их — эти работы — выставят, испыты- вают искушение превратить выставку в жест; кураторы, выставляющие эти работы, испы- тывают искушение превратить выставку в ре- презентацию, чтобы тоже стать своего рода художниками.
Но чтобы сохранить выставку как таковую, мы, несомненно, должны постоянно возвра- щаться к третьей возможности — живой способности, особенно человеческой, пока- зывать, не показывая, репрезентировать, не репрезентируя. Как? Во-первых, всякий раз подчеркивая, что выставка не мгновенна, что она сконструирована и никогда не сможет быть совмещена с идеализированной спонтанностью жеста. Во-вторых, что выставка работает с реальным присутствием и никог- да не материализует ничего отсутствующего, как это делают изображения, тексты и си- стемы знаков. Прежде всего, тот, кто что-то выставляет, должен сделать видимым, замет- ным прием, с помощью которого он застав- ляет нечто явиться перед нами, одновремен- но готовя свое собственное исчезновение с места действия. Поскольку он предраспо- лагает к явлению один или несколько объ- ектов, одно или несколько событий, частей природы, артефактов, произведений, тел и движений, не делая вид, что они показывают себя спонтанно, ему никогда не следует зату- шевывать используемый им социальный ап- парат перемещения, драматургии и восприя- тия, но при этом важно, чтобы такой аппарат не оказался новым центральным объектом выставки. Чтобы осмотр выставки стал опы- том (expérience), мы должны осознавать пути медиации, по которым нечто является перед нами, не делая их предметом восприятия, чтобы они оставались средством, а не целью.
В конечном счете эти средства, эти пред- расположения всегда должны служить делу возникновения некой идеи, присутствия, ре- презентации. Ведь если выставка сводится к драматургии собственной драматургии, она теряет цель, заключающуюся в том, чтобы дать возможность нам, зрителям, узреть некое явление (apparition).
В этом и состоит высший смысл выставоч- ного акта: позволить всему, что достойно ин- тереса и что формирует наш эстезис и наше знание, явиться и стать видимым, заметным. Таким образом, правильная выставка, со- храняющая возможность этой изначальной способности, рационализированной совре- менностью, которая разделила ее на худо- жественный и научный виды, на эстетику и эпистемологию, на драматургию незамени- мой сингулярности вещей и драматургию об- разцов, всегда будет выставкой, искусственно предрасполагающей к откровению.
Цель любой выставки — возникновение чего-то, но посредством некой системы или аппарата и поэтому без претензии на не- посредственность, спонтанность или естественность: хорошая выставка — это продуманное и сконструированное откровение (révélation).
Возможно, в этом и заключается тот отда- ленный идеал, который, тем не менее, направ- ляет различные формы выставок, не дающих себя свести ни к жестам, ни к произведениям, принадлежащих к другому жанру, который в любом случае проходит через всю историю витрин, галерей и музеев, в сознании всех тех, кто стремится материально произвести жест, выходящий за рамки субъективного и спон- танного, чтобы показать части природы, про- изведения человека, смеси, инертные объек- ты, живые или мертвые тела, акты, предлагая их нашему восприятию. Выставить их — значит раскрыть их, но не как чудо, а как терпеливый результат конструирования мест и моментов, когда можно будет сделать так, чтобы все могло себя показать.
Тристан Гарсия
Родился в Тулузе в 1981 году. Писатель, философ. Автор нескольких романов и философских исследований. Преподает в Университете Лион-3. Живет в Париже.
